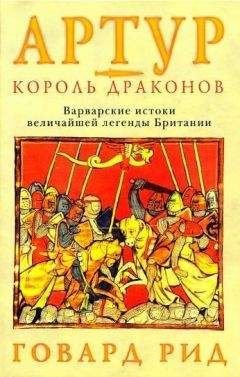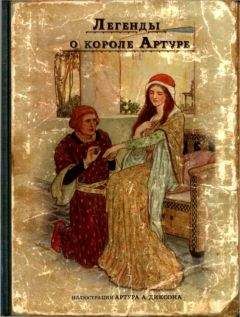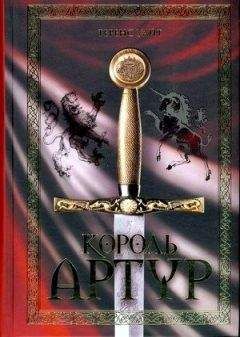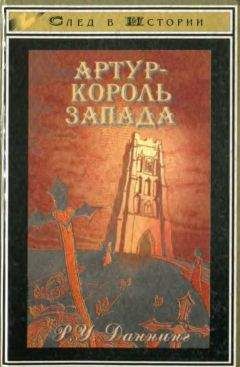Андрей Никитин - «Повесть временных лет» как исторический источник
Последние упоминания о народе «русь» исследователь обнаруживает в сюжетах, связанных с крещением Владимира (ст. 6495/987 и 6496/988 гг.), к которым по своей стилистике примыкает безусловно аутентичный фрагмент 6551/1043 г., где этноним «русь» оказывается субъектом повествования, подобно текстам о событиях первой половины и середины X в. Стоит отметить, что этот рассказ о походе Владимира Ярославича на Царьград отличается стилистическими особенностями как от окружающих его текстов, так и от «хроники Ярослава», заканчивающейся ст. 6532/1024–6534/1026 гг.
Новое содержание этнонима «русь», предполагающее уже не народ, а только «русское войско», противопоставляемое иноплеменникам (в данном случае — печенегам), можно заметить в рассказе о событиях 6501/993, а затем 6523/1015 гг. Такое использование лексемы «русь» в ПВЛ встречается еще два раза — под 6586/1078 и 6611/1103 гг., в ситуации противостояния объединенных сил киевских князей половцам, что прямо указывает на XII в., лишая данный термин какого-либо хронометрического значения.
Данное обстоятельство — обработка предшествующих текстов и написание собственно текстов ПВЛ в первой половине XII в., делает бесполезными попытки установить, хотя бы приблизительно, время превращения этнонима «русь» в хороним «Русь», определяющий страну и государство, поскольку впервые с этим значением мы встречаем его в ст. 6477/969 и 6479/971 гг. о Святославе, т. е. в текстах, написанных или кардинально переработанных в XII в. То же следует сказать и о единичном употреблении этого хоронима в ст. 6485/977 г. о Ярополке, которая, с одной стороны, является продолжением рассказа о дунайских походах Святослава, а с другой — «вступлением» к повествованию о Владимире. Начиная с этого фрагмента, все последующие упоминания «Руси» в качестве страны или государства (ст. 6489/981, 6492/984, 6494/986, 6527/1019, 6545/1037, 6559/1051, 6597/1089 гг. и далее) связаны с редакцией первой половины XII в.
В этом плане особенно интересно отметить появление в тексте ПВЛ параллельных «Руси» лексем с тем же содержанием — «Руская земля» и «земля Руская», — получающих широкое распространение в последующем летописании вплоть до ограничения хоронима «Русь» сферой действия литературной традиции. Лексема «земля Руская» впервые использована в ст. 6463/955 г. («аще Богъ въсхощеть помиловати роду моего и земли Рускые» [Ип., 52]), и позднее, в ст. 6488/980 г. («и осквернися требами земля Руская» [Ип., 67]), но в том и в другом случае, как показывает благочестивый контекст, перед нами следы позднейшей авторской (редакторской?) работы, такой же, как в ст. 6534 и 6542 г… Действительно первым (хронологически) использованием этой лексемы следует считать ст. 6569/1061 г., сообщающую, что «придоша половци первое на Руськую землю воевать» [Ип., 152], после чего мы находим ее в ст. 6576/1068, 6579/1071, 6586/1078, 6597/1089, 6598/1090 г., тогда как начиная со ст. 6601/1093 г. она оказывается уже единственно употребляемой.
И всё же самым загадочным этнонимом в ПВЛ можно считать лексему «древляне/деревляне», которая заставляет вспомнить племя «древан» в Северной Германии в бассейне р. Иетцель, сохранявших свою самобытность вплоть до XVIII в.[225], производные от нее топонимы «Дерева», «Деревьская земля» и определение «деревьскии князь».
В ПВЛ происхождение «деревлян» связано с рассказом о расселении «словен», которые «седоша по Днепру и наркошася поляне, а друзии деревляне, зане седоша в лесех» [Ип., 5], т. е. с текстом «краеведа», дополнявшим первоначальную географию расселения славян в Европе, что само по себе определяет его появление первой половиной XII в., равно как и последующая вставка, называющая племена «словенского языка» в Руси: «поляне, деревляне, новъгородьци, полочане, дьрьговичи, северо, бужане, зань седять по Бугу, после же волыняне» [Ип., 8]. Еще одно настойчивое утверждение, что «деревляне отъ словенъ же, и нарекошася древляне», повторяется вместе с собщением о приходе «Радима и Вятко» и о «мире» между всеми славянскими племенами [Ип., 9], хотя уже в следующем фрагменте оказывается, что «деревляни живяху зверьскымъ образомъ, живуще скотьскы», и что «поляне» «быша обидими деревляны» [Ип., 12], т. е. нечто прямо противоположное вышесказанному. Естественно, согласовать между собой столь противоречивые сведения можно только признав, что они заимствованы из разных источников, повествующих о разных народах со сходными названиями. Но об этом несколько позже.
Следуя ПВЛ, историки и археологи определили место обитания «древлян/деревлян» в бассейнах Припяти и Ужа, правобережных притоков Днепра, а главными их городами — Искоростень/Коростень и Овруч, хотя ни скудный археологический материал, обобщенный недавно В. В. Седовым[226], ни еще более скудные сведения ПВЛ и топонимики верховьев бассейна Днепра и юго-запада земель Великого Новгорода («Деревская пятина») не помогают в идентификации и выделении этого племени из массы окружающих их «полян» и «волынян». То же следует сказать и в отношении «экологического» объяснения пары «поляне» — «деревляне», поскольку оба племени в VIII–IX веках не имели отличий ни в условиях своей жизни, ни в быту, разве что городища и погребения «древлян/деревлян» свидетельствуют об их большей, по сравнению с их соседями, бедности.
Другими словами, в исторической реальности «древляне/деревляне» не представляли и не могли представлять никакой опасности для киевских князей ни в политическом, ни в экономическом, ни в этническом плане, поскольку они жили в лесах и болотах, не обладая ни амбициями, ни человеческими ресурсами, ни торговыми путями, которые проходили бы по их территории. Вместе с тем, в ПВЛ исследователь обнаруживает прямо противоположную картину, основанную не только на утверждении деревлянских послов что «наши князи добри суть, иже роспасли суть Деревьскую землю» [Ип., 44] в противоположность «земле Руской», но и на том факте, что с Олега и вплоть до Святослава каждому русскому князю приходилось начинать свою деятельность с экспедиции против этих самых «деревлян». Правда, после акции, предпринятой Ольгой, от «Деревской земли» остается лишь топоним, последний раз упомянутый при распределении Владимиром княжений своим сыновьям, когда «в Дерева» назначается Святослав Владимирович [Ип., 105][227].
Столь упорное сопротивление маленького племени, не обладавшего даже серьезными укреплениями[228], является нонсенсом, заставляющим предполагать, что перед нами результат адаптации этнонима в чуждой для него историко-географической ситуации, описываемой ПВЛ, в которую он попал вместе со включающим его текстом.
Таким текстом, содержащим не одно только имя «деревлян» в качестве объекта экспансии со стороны «руси», но и характеризующим их самих, может служить рассказ о гибели Игоря и первых трех отмщений Ольги в ст. 6453/945 г. (дубл.) с его продолжением под 6454/946 г., в котором назван главный город «деревлян» Коростень/Искоростень (в ст. 6485/997 г. центром «Дерев» назван город Овруч), а сами они оказываются более цивилизованными и менее коварными, нежели «русь». Однако главным аргументом против локализации противников русских князей в бассейне р. Уж является свидетельство византийского историка Льва Диакона, точно так же упоминающего о смерти Игоря, отца Святослава, в «деревах», однако от рук не славян-деревлян, а от «германцев», причем речь идет не о топониме «Дерева», а о реальных согнутых деревьях, к которым был привязан алчный князь и затем ими разорван[229].
Так исследователь снова сталкивается с проблемой деревлян/тервингов, т. е. готов, следы которых, насколько можно судить по советским публикациям, не выявлены в пределах Среднего Поднепровья, если не считать «древностей русов», положенных в основу известной работы Б. А. Рыбакова, в которой фигурируют «русские дружинники IV–V вв.»[230]. Наоборот, большое количество свидетельств о местонахождении «Росии» на берегах Керченского пролива («Боспора Киммерийского»), который упомянут и Львом Диаконом в качестве исходной точки морских набегов Игоря и Святослава[231], дает возможность идентифицировать деревлян/германцев с готами-тетракситами, обитавшими на лесной и гористой части Таврического полуострова, а также в Нижнем Подунавье. Другими словами, всё это, вместе с явной чужеродностью сюжета о «мести Ольги» славянской литературе вообще и, наоборот, близостью данных сюжетов германскому эпосу, делает вероятным предположение, что эти тексты, м.б., в результате отождествления «лесных людей» Припяти и Ужа («forsderen liudi» баварского географа) с «древанами» Северной Германии и Подунавья, были инкорпорированы в состав свода, предшествовавшего ПВЛ (напр., в гипотетическое «Сказание о первых князьях руских»), а в последующем отредактированы «краеведом-киевлянином», которому принадлежит заслуга в адаптации их к историко-географической реальности Среднего Поднепровья и в продолжении «деревлянской темы» за пределами рассказа о смерти Игоря и мести Ольги (судьба Олега и Ярополка).