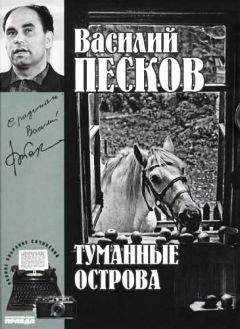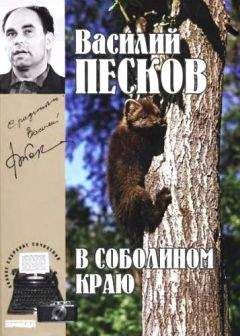Сергей Лавров - Лев Гумилев: Судьба и идеи
В мае 1946 г., за три месяца до «исторического» постановления (вряд ли этот короткий интервал был случайностью), Зощенко был утвержден членом редколлегии «Звезды». Полагают, что это было инспирировано ведомством Берии. «Наверху» шла своя игра; если вначале А. Жданову удалось выжать Г. Маленкова из аппарата ЦК, то затем начался реванш «маленковцев». Доложили Сталину; видимо, показали «криминальные» журналы в натуре, нужным образом откомментировали. Перед заседанием Оргбюро ЦК 9 сентября 1946 г., вероятно, было еще одно – более узкое, где А. Жданову пришлось выслушать много жестких слов о «распущенности» ленинградских кадров208. А дальше – «спасайся, кто может»! Секретарь ЦК «заложил» и оба журнала, и обе «криминальные» фигуры, и тогдашних лидеров города – Капустина и Широкова.
«Подковерная схватка» в Кремле, происходившая «высоко-высоко», ударила и далеко «вниз» – по А.А., сделав опять «спорным» вольное существование Л.Н. Достать его и «приобщить к делу» было бы крайне легко в аспирантуре ИВАНа, и совсем уж нетрудно из библиотеки психушки. Но, возможно, в ту пору А. Жданов (не будем отказывать ему в каких-то человеческих чувствах!) постарался смягчить реальный удар, ограничившись бранными словами разноса.
Это подтвердил позже один из вернувшихся после «ленинградского дела»: «В сорок шестом году Жданов вторично спас своих земляков от физической... гибели. Если в сорок первом их вывезли из осажденного города на самолетах, оставляя при этом под огнем раненых бойцов и беременных женщин, то теперь он выручил их из беды – возможно, не намеренно, но кто знает? – прогремевшим на весь мир скандалом. Ведь если бы не это «мероприятие», то композиторы и писатели обязательно попали бы в лапы заплечных дел мастера Абакумова! Вам знакомо это имя? Нам слишком даже оно известно»209. Изгнанные из Союза писателей СССР А. Ахматова и М. Зощенко вновь получили свои продуктовые карточки непосредственно в Смольном. Замечу, что против объявления их диссидентами впоследствии боролся сам Л.Н.!
Вся история августа 1946 г. больнее всего ударила по ее вынужденному инициатору – А. А. Жданову. В начале могло показаться, что, сдав всех, он выиграл тактически, но это было очень краткосрочно; проиграл же он стратегически, и, видимо, свою жизнь. До августа ему казалось, что конкуренту № 1 – Маленкову не быть в аппарате ЦК, а Берия окончательно потерял пост руководителя НКВД, но это было не так. Жданов переоценил свои возможности, переоценил благоволение Самого.
Незадолго до этого был построен санаторий «Валдай». Как говорит местная молва, построен специально для Сталина; место лучшее в Европейской части страны, здоровое, чистое, у знаменитого и красивейшего озера. Говорят, Сам приезжал туда единожды посмотреть, что получилось; в густом лесу стояло одно капитальное, в «старономенклатурном» стиле здание и скромные домишки для обслуги и охраны вблизи. Беда в том, что впритык к главному дому прислонились могучие темные ели. Вождю это не понравилось; не обеспечен обзор, а значит – безопасность. Вырубить деревья вблизи дома почему-то не решились.
В 1948 г. там, в пустующей «резиденции», отдыхал опальный А. Жданов. После какого-то разговора с Шепиловым ему стало плохо с сердцем. Добавим – и это очень существенная деталь, – что заведовала кабинетом электрокардиографии Лидия Тимашук, имя которой страна узнала в 1952 г., когда она «героически» разоблачила «врачей-отравителей» и получила за это орден Ленина (отобранный после смерти вождя). 31 августа 1948 г. Жданова не стало. Автор книги «В плену у красного фараона» Г. Костырченко писал, что «лечение» А. Жданова нельзя было назвать даже халтурным – «так со своим пациентом не обходится даже начинающий терапевт»210. Через полвека Д. Т. Шепилов вспоминал: «На пленуме ЦК после XIX съезда партии Сталин с волнением и большой силой убежденности говорил, что Жданова убили врачи: они-де сознательно ставили ему неправильный диагноз и лечили умышленно неправильно»211.
После смерти Жданова отпала последняя преграда для расправы с «выскочками» из Ленинграда. Начался поистине страшный 1949-й. А. Ахматова писала:
В Кремле не надо жить. Преображенец прав.
Тут зверства древнего еще кишат микробы,
Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,
И Самозванца спесь взамен народных прав.
От описанных, событий было совсем недалеко до «ленинградского дела»; они были прелюдией к нему. 1946-й и 1949-й несравнимы. В первом были слова – гнусные, гадкие, лживые, но все-таки лишь слова. Поклонница Анны Андреевны – страшно поверхностная и ненавидящая все советское – дотошно цитирует в своих мемуарах, смакует этот набор: А.А. – «представительница чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии», «взбесившаяся барынька» и «полумонахиня, полублудница», которая «мечется между будуаром и молельней», а М. Зощенко – «пасквилянт, хулиган и подонок», публично выпоротый журналом «Большевик»212. Мемуаристка даже «вычислила», что писал текст постановления 1946 г. сам Сталин, а не Жданов, что весьма спорно, а точнее, вовсе бездоказательно213.
Но в 1946 г. никого, кроме узкого круга «причастных» к делу, не выгнали с работы и не репрессировали. Ощущался какой-то странный диссонанс между словами и делами местной власти. Не был ли это спектакль для «верхов»? Здесь я могу не ссылаться на чьи-либо мемуары, а просто кое-что вспомнить сам. Я был тогда студентом ЛГУ, а что мог знать студент о «подковровье»? Конечно, ничего; мог лишь видеть реакцию на происходящее. В Саратове, куда был эвакуирован ЛГУ, жизнь проходила в одном общежитии (бывшей гостинице «Россия»); там в стоянии в бесконечных очередях за кипятком я видел и знал многих «героев» 1946–49 гг. Прекрасно помню, что не было и намека на панику, на перепутанность у вузовской интеллигенции. Теперь можно понять, что, скорее всего, это была «куриная слепота», полная неспособность понять корни свершившегося и уж тем более предвидеть и прогнозировать вперед на три года! Доминировало обычное трусовато-интеллигентское подхихикиванье на кухне, анекдотики, но никак не страх.
Совсем другое дело – 1950-й! Вспоминаю одну деталь: едем с другом-студентом в промерзшем тамбуре поезда на Прибытково – это по Варшавской, недалеко, но тогда очень долго, электричек-то не было... И вот в пустом тамбуре друг шепчет мне на ухо: «А Лёву сегодня посадили!» (Лёва – его приятель, сын ректора ЛГУ А. Вознесенского.) Вот здесь уже был удар по городу, жесткий удар по университету, и отнюдь не словесный, а «лагерный», расстрельный...
Особо «заразным» казался властям, видимо, экономический факультет – детище А. Вознесенского. Профессор В. В. Рейхардт был арестован и погиб в тюрьме. Вернулся, но каким-то сломленным китаист и экономист – профессор В. М. Штейн. Отсидел «свое» и профессор Я. С. Розенфельд. Помнится, еще в 60-х на экономфаке время от времени обсуждали: кто из «своих» сажал?
На филологическом факультете выгнали с работы тишайшего профессора Б. М. Эйхенбаума – исследователя раннего творчества А. Ахматовой (не за это, конечно!). Григория Гуковского сначала просто не пускали в Ленинград, когда ЛГУ возвращался из эвакуации (1944 г.), а потом посадили (1949 г.), и он тоже погиб в тюрьме (1950 г.). На Комаровском кладбище есть могила его второй жены – Зои Владимировны (она тоже сидела, но вернулась), и на этой же плите добавлено: «Памяти Григория Александровича Гуковского 1902–1950».
На историческом факультете, имеющем прямое отношение к нашему герою, посадили брата Григория Гуковского – Матвея. Добрейший и умнейший декан – профессор В. В. Мавродин был исключен из партии и уволен с работы, лишен всяких источников существования и надолго...
В Ленинграде и области работы лишилось 2000 человек, многие из них были репрессированы, некоторые расстреляны. Все это абсолютно несравнимо со «словесной волной» 46-го214.
К чести Анны Андреевны, надо сказать, что она не сломалась после Постановления ЦК и ждановского доклада. Корней Чуковский вспоминает уже в 1954 году: «Седая, спокойная женщина, очень полная, очень простая... О своей катастрофе говорит спокойно, с юмором: «Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие – и убедилась, что в сущности это одно и то же»215. Но М. Зощенко был сломлен, сразу и навсегда. Видевший его четырьмя годами позднее А.А. Чуковский вспоминает: «Ни одной прежней черты... Теперь это труп, заколоченный в гроб. Даже странно, что он говорит»216. А.А. отнеслась ко всему, в конечном итоге, с юмором (как бы дико это ни звучало), а М. М. «искренне хотел следовать предложенным ему курсом», что подтверждают его дневники и бумаги»217.
Великая поэтесса не могла тогда понять истинных причин катастрофы. Нам сегодня куда легче, располагая «морем информации» и всем набором мнений. Ей в ту пору казалось, что доминируют какие-то личные мотивы. Согласно одному из объяснений А.А., «Сталин приревновал ее к овациям». В апреле 1946 г., когда Ахматова читала свои стихи в Москве, публика аплодировала стоя. Последняя почесть полагалась только Сталину, а не какой-то поэтессе218. Мелковато и вряд ли докладывалось Вождю.