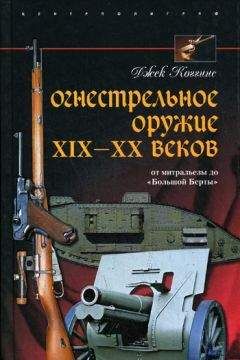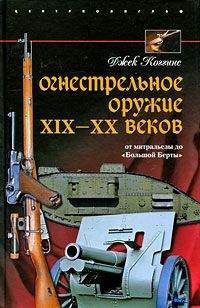Павел Загребельный - Я, Богдан (Исповедь во славе)
Хлопцы мои Демко и Иванец бросали какие-то глупые шутки молодецкие Матронке, она отшучивалась, а мне казалось, что смотрит лишь на меня, но не осмеливается промолвить мне хотя бы слово, и я тоже растерял все свое мужество и молчал, будто в оцепенении. Но тут выскочил на крыльцо Тимко, за ним с визгом выкатился маленький Юрась, я соскочил с седла, одной рукой прижал к себе чубатую, уже казацкую голову старшего сына, а другой подхватил малого Юрка, а уже и дочь Катря шла к отцу, и пани Раина появилась будто ниоткуда и рассыпалась в своих шляхетских радостях и восторгах, только тогда приблизилась и Матронка, и я вплотную увидел ее серые глаза под темными бровями, и сердце мое резануло страшной болью от давнего-давнего воспоминания, еще переяславского, когда такие же глаза из-под таких же бровей смотрели на меня с любовью, страхом и надеждой. Серые глаза под темными бровями. Ганнины глаза.
- Где мать? - спросил я детей, не видя Ганны. - Что с нею?
Никто мне не ответил, но я уже и сам знал, и неземной страх овладел мною.
Теперь гладил Ганнины помертвевшие руки и плакал над ее судьбой и над своей. Человек умирает, угасает медленно и неуклонно, и не помогут ни короли, ни боги, никто и ничто. Где тайна жизни и смерти, существования и небытия?
- Ой Богдане, Богданочку, - шептала мне Ганна, - как же один останешься? Бог вразумил тебя, что ты приютил у нас пани Раину. Она добрая женщина и пригожая. Будет тебе хозяйкой и женою. Послушай меня, Богданчик, обещай мне...
Даже на смертной постели не могла проникнуть моя несчастная Ганна в мрачные глубины моего сердца, не почувствовала затаенного, не даровано ей ясновидение того, что свершится, - таким великим и непростимым был мой грех.
- Прости меня, Ганна, - попросил я ее, - прости.
- За что? Разве ты виновен?
В самом деле, виновен ли? Что делал до сих пор, как жил, какими нуждами, заботами и страстями? Дал ли волю сердцу своему хотя бы раз, думал ли о нем, позаботился ли? Человек должен отшуметь смолоду. Целые годы молитв и сурового воздержания у иезуитов, два года жестокой турецкой неволи остановили меня, будто коня на скаку, сломилось во мне все надолго, будто и навсегда, когда же проснулась душа, почувствовал: не будет теперь мне удержу ни в чем! Знал, что и смерть Ганнина не станет преградой, а, может, только откроет мне дорогу к греху.
Страшные мысли и страшная душа моя, но что я должен был делать?
Раздал варшавские подарки домашним, привез из Чигирина лекаря шляхетского, попросил священника субботовского помолиться о здравии моей несчастной Ганны, а потом закрылся в своем покое на несколько дней, никого не пускал к себе, не хотел видеть. Чувствовал себя старым и одиноким. Человек и рождается для одиночества, ибо разве не в тайне зачинают его и приводят на свет? А живешь на людях, и отплачивают разве лишь тем, что приходят на твои похороны. И уже тогда снова получаешь свое одиночество на веки вечные.
Днем время проходит незаметно, оно растрачивается между хлопотами и мелочами, а ночью, когда никого и ничего вокруг, когда ты один, - время течет, будто река, оно окружает тебя темным морем одиночества, которое плывет в безвесть с неудержимой медлительностью и упорно несет тебя с собой.
Куда я плыву и куда плывем все мы? Только ли к смерти или еще к какому-то неведомому берегу, где ждет нас утешение?
Ничто не помогало мне тогда. Ни трубка, ни горилка, ни бандура старенькая. Бродил я по светлице, слонялся, будто домовой, к окнам боялся подойти, чтобы не видеть божьего света, успокаивало меня разве лишь теплое старое дерево дверей. Мягкое на вид и теплое. Как старый человек. Я подтянул лавку к двери, сел возле нее, оперся спиной, ощущая успокоительную старость и сухость дерева, а мои тяжелые руки отдыхали на легонькой вербовой бандуре. Так и жизнь казалась словно бы ласковее, и не было ей конца.
Ой у нашiй у славши Українi
Бували колись престрашнi злигоднi, бездольнi години...
Трудно даже сказать: слагал ли и пел я свое или напевал уже слышанное когда-то о славной победе Наливайко над гетманом коронным Жолкевским при Чигирине? Тогда я еще был младенцем, лежал в зыбке, подвешенной вот к такой же темной деревянной матице, и, может, один лишь вид дерева действовал на меня, малого, так же успокаивающе, как теперь на старого и многоопытного.
Бували й мори,
Й вiйськовi чвари,
Нiхто ж українцiв не рятував,
Нiхто за них боговi молитов не посилав,
Тiльки бог святий наших не забував,
На великi зусилля, на одповiддя державi
Ох, у каждого свой бог и надежды свои! Когда Николай Потоцкий утопил в крови последнее восстание Остряницы, он тоже ссылался на ласку божью в своем письме в Варшаву: "Благодаря божьей ласке и счастью королевскому нам повезло несколько раз: много раз сильно громили мятежников, таборы их крепко разрывали, их самих по нескольку тысяч вырубали, но что же! В один день их погибнет столько, а на второй-третий день сразу же на это место прибывает еще больше этого своевольства, которое со всех сторон валом валит к ним!"
То не хмари по небу громом святим вигримляють,
То не святих вони до бога проводжають.
То ляхи у бубни ударяють,
У свистiлки та в труби вигравають,
Усе вiйсько своє докупи в громаду скликають,
Щоб iшли всi до громади на послуханнє,
Слухати гетьмана Жовкевського одповiданнє.
А послухавши, коней сiдлали,
Через Бiлу-рiчку* перехiд великий мали.
______________
* Здесь: Тясьмин.
А перейшовши, обгороди да шанцi робили,
Ув укрiп гармати становили.
А поперед гармати три хрести вколотили.
А що перший хрест, то Сомко висить,
Сомко висить, барзо голосить,
А що другий хрест, то Богун висить,
Богун висить, шаблюкою лопотить.
А що третiй хрест, то порожнiй стоїть,
Усiх iнших козакiв до себе пiджидає,
Козакiв пiджидає, козакiв оглядає,
Хто первий пiдiйде, того гармата уб'є,
Хто другий добiжить, того самопал цапне,
Хто третiй пiдлетить, той хреститься буде,
Хреститься буде й молитися стане,
Що хрест з осоки - то його надбаннє...
Может, это дед моей несчастной Ганны был распят на одном из крестов гетмана Жолкевского, а на другом дед моего побратима Богуна, которому не помогло и имя, взятое от господа бога. Против трех крестов Жолкевского Наливайко выставил тогда три хоругви казацкие красные крещатые с надписью: "Мир христианству, а на зачинщика бог и его крест!" Как в песне сказано: "У кого крест, на того и крест!"
Отсе ж i пiшлi нашi на чотири поля,
Що на чотири поля, а на п'яте на подоллє
Ляхiв на всi сторони по всiх хрестах колотили,
Ляхи опрощення просили, да не допросились:
Не таковськi козаки, щоб опрощення дали!
Не таковськi й ляхи, щоб напасть забули!
Буде й нашим лихо, як зозуля кувала,
Що вона кувала, тому й бути-стати.
Як стануть бiси правих i неправих єднати,
Душi забирати, у пекло докупи складати,
Од того й сього, од iншого чого,
Боже нам поможи!
Струны гремели, песня лилась сама собой, будто это и не я уже, а судьба наша пела, я же должен был чувствовать себя еще более одиноким и беспомощным со своими неодолимыми хлопотами и горем близким, которое было вот здесь рядом, и стояло неотступно, и уже шумело страшной косой, срезающей все самое дорогое и самое прекрасное.
Холод одиночества такой, что не согреешься на всех огнях мира. Может, и сверкнул бы мне утешительный огонь из серых глаз, но вишь как мстительно соединила судьба глаза Ганнины и глаза Матронкины.
Я немного отодвинул лавку от двери: что-то вроде бы тревожило мне спину. Только отодвинулся, услышал какой-то посторонний, настырный звук позади. Сверчок в щелке зашевелился или старое дерево потрескивает, ссыхаясь, хотя куда уж ему больше ссыхаться? Не хотелось прислушиваться, ничего не хотелось, но звук был назойливый, хотя и слабый, я направил в ту сторону ухо и теперь отчетливо услышал, будто кто-то скребется в дверь с той стороны. "Кто там? - недовольно пробормотал я. - Чего нужно? Никого не хочу видеть!" Но скребящий звук не затихал, будто это напоминал о себе дух святой или домовой. Тогда я отбросил лавку и дернул к себе дверь. Уронил бандуру из рук, отшатнулся. Вся кровь моя ударила в ноги, провалилась сквозь меня. Не мог ни пошевельнуться, ни вздохнуть. За дверью стояла Матронка. Стояла передо мною, будто грех воплощенный.
- Батько, - промолвила тихо, - вы так хорошо пели, так хорошо... Я хотела послушать.
- Я? Пел? - наконец пришел я в себя. - Тебе показалось, дитя мое. Разве я способен петь?
- Так, как вы, никто...
Но договорить не успела, потому что прибежал Тимко, с ласковой бесцеремонностью оттолкнул ее, заслонил от меня, не пытаясь приглушить своего громкого голоса, воскликнул:
- Вот тебе и раз! А я ищу, а я ищу! А она вот где!..
Славный казак вырастал, саблей рубился с обеих рук уже не хуже меня, грамоте обучил я его вместе с Матронкой и моей Катрей, затягивая в Субботов самых лучших учителей, каких только мог раздобыть в сих краях, а мягкости в душу, вишь, не сумел я сыну влить. Грубым был и дерзким даже перед отцом родным.