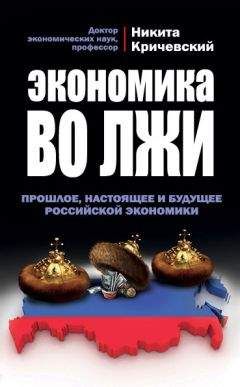Ян Левченко - Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии
Автор сам решает, что с чем будет связано – он и есть гарантия повествовательного единства[134].
«Третья фабрика» завершает трилогию и открывает новый раздел биографии: далее появятся «Гамбургский счет» (1928), «Поденщина» (1930) и «Поиски оптимизма» (1931), связи между которыми слишком ослаблены, чтобы считать их частями другой трилогии, но вместе с тем достаточны, чтобы видеть перекличку мотивов, диагностика которых началась уже в «Третьей фабрике». Поденная работа, или халтура, дала имя одной из упомянутых книг. Саморазоблачение можно и нужно превратить в литературный прием, что Шкловский и сделал, но «веселая наука» закончилась[135]. Процесс этот начинается именно в «Третьей фабрике», пропитанной ощущением кризиса. Здесь замолкает эхо революции. В главе «Вторая фабрика», закономерно соответствующей периоду «бури и натиска» ОПОЯЗа, есть футуристы, учеба на скульптора, Кульбин и Бодуэн де Куртенэ, есть война, быстро состарившаяся за одну страницу, описание угарного газа в гараже броневого дивизиона и знакомство с семейством Брик, но нет скорости, на которой построена наррация «Сентиментального путешествия». Напротив, в начале книги прямо говорится: «Мы любим ветер революции. Воздух при 100 верстах в час существует, давит. Когда автомобиль сбавляет ход до 76, то давление падает. Это невыносимо. Пустота всасывает. Дайте скорость» [Шкловский, 2002, с. 340].
Революционную энергию вытесняет чувственная, эротическая. Шкловский совершает провокационную подмену в духе почитаемого им Розанова. В финале «Второй фабрики», т. е. лирического обзора ОПОЯЗа, много внимания уделено семье Бриков, в которую «приходил Маяковский» и где кормили деликатесами. Шкловский, рассказывая о вечерах у Бриков, перечисляет: «На столе особенно помню: 1) смоква, 2) сыр большим куском, 3) паштет из печенки» [Там же, с. 359]. Возможно, эта троица случайна, и все же чувственный инжир убедительно соотносится с женщиной, а большой сыр и мягкий паштет с окружающими ее мужчинами – сильным и слабым. Намек на расстановку сил в тройственном союзе Бриков и Маяковского более чем прозрачен и композиционно соседствует с главой-письмом Роману Якобсону, которая содержит отчетливые гомосексуальные мотивы: «мы были как два поршня в одном цилиндре»; «тогда, когда мы встретились на диване у Оси, над диваном были стихи Кузмина» [Там же, с. 361] и т. д. Сюда же можно отнести сравнение себя с льном на стлище – побиваемым, пассивно страдающим. Жертва нужна жизни, а не искусству: «Лен не кричит в мялке. Мне не нужна сегодня книга и движение вперед, мне нужна судьба» [Там же, с. 349].
Мотив тройственного союза и бисексуального влечения отразится в киносценарии «Третья Мещанская», над которым Шкловский работает в том же 1926 г. Уже начиная с названия это была попытка третьего пути, о котором в подчеркнуто селекционных терминах говорит третья часть «Третьей фабрики». «Путь третий – работать в газетах, в журналах, ежедневно, не беречь себя, а беречь работу, изменяться, скрещиваться с материалом, снова изменяться, скрещиваться с материалом, снова обрабатывать его, и тогда будет литература» [Там же, с. 369]. Здесь эротические коннотации получают прямо-таки ритмично-производственный характер. По всей видимости, третий путь – это отказ от жестких оппозиций, от борьбы (революции), погружение в повседневность как в лоно частной жизни. Эта тема находится в центре фильма по сценарию Шкловского.
Картина «Третья Мещанская» (второе название «Любовь втроем») в постановке Абрама Роома, получившая в зарубежном прокате названия Bed & Sofa (Англия) и Trois dans ип sous-sol (Франция), изучена с различных точек зрения[136]. Исследователи сходятся на том, что эта экранная провокация типичной для России патриархальной сексуальности отражает социальные и ментальные сдвиги пореволюционной России. В своем сценарии Шкловский выстроил не только аллюзию на брак втроем в исполнении Бриков и Маяковского, хорошо согласующийся с ранней социалистической моралью (отмена брака вместе с институтом частной собственности). Здесь отчетливо заявляет о себе гомоэротический подтекст, ранее вытеснявшийся из текстов Шкловского нарочитой мужественностью[137]. Герои фильма – двое мужчин, никак не могущих поделить женщину, в итоге остаются вдвоем, чтобы спокойно и безмятежно существовать в квартире на Третьей Мещанской улице. Автономия равноправных полов, исчезновение иерархий ведет к нейтрализации оппозиций. Третий член разрушает контрастную пару и создает новую, где оба члена идентичны. Совершенно безразлично, живут ли на Третьей Мещанской мужчина и женщина, двое мужчин и одна женщина или мужчина с мужчиной. Третий путь, который избирает женщина, отказавшаяся как от одного, так и от другого мужчины, ломает саму идею семьи. Картина, собственно, и концентрирует внимание на симптомах этой ломки. Наряду с аллюзией на «семью» Бриков и Маяковского вполне уместен акцент на дружеской семье формалистов, из которой выброшен за границу Якобсон, а в Москве пропадает, «как мясо в супе», зачем-то вернувшийся из-за границы основатель школы. «Письмо Якобсону», включенное в «Третью фабрику», отражает беспокойство автора, ощутившего кризис единства – круга друзей, метода и собственного тела, его ощущений. Нереализованность интеллектуальная получает ироническое отражение в сексуальной неудовлетворенности. Неслучайно повествователь «Третьей фабрики» живет «тускло, как в презервативе» [Там же, с. 372]. Кстати, этой фразой начинается главка с характерной пассивной конструкцией в названии: «Что из меня делают».
Мотив троичности, разрушающей бинарные отношения, заострен в фильме с физиологической отчетливостью. Шкловский играет с числом 3 не только названием и числом персонажей, но и на уровне мотивов. Так, титр сообщает, что «два дня прожил Фогель у Баталовых», а на третий приударил за Людой, чей муж Коля отправляется в служебную командировку. Когда чужой мужчина – фронтовой товарищ мужа – только появляется в доме, супруги выделяют ему диван, а сами живут на кровати. После измены жены законный муж ненадолго уходит жить на службу, где спит на столе, – это «третье» ложе отсылает к образу жестокой изнурительной работы, который Шкловский живописует в «Третьей фабрике». Наконец, в ходе воскресной прогулки будущий любовник предлагает женщине три вида развлечений, каждое из которых сублимирует чувственную близость. Это зрелище парада, куда включена экскурсия на аэроплане (полет любви[138]), катание на автомобиле с проездом сквозь арку (обряд перехода) и вечерний поход в кино с его темнотой и атмосферой острой интимности на фоне телесного соседства с посторонними людьми. После этой тройной ретардации любовникам остается вернуться домой и реализовать метафору: во время гадания на картах валет покрывает даму. Следует затемнение.
Такая откровенность возмутила консервативную (вариант – мещанскую) часть критического большинства. «Валет, покрывающий даму, методическое волнение воды в стакане, в такт движениям на кровати за ширмой, ставшей <…> непременным аксессуаром роомовских лент, двуспальная кровать… Картина не бытовая и не советская!» [Яковлев, 1927, с. 3]. С явным недовольством отозвался о фильме почуявший неладное Осип Брик: «Самый конфликт дан не резко, не принципиально. <…> Нет ничего специфически характерного для советской бытовой обстановки» [Брик, 1927, с. 2]. В связи с отзывом несгибаемого ЛЕФовца сложно не вспомнить также вряд ли приятную для него главу из «Третьей фабрики». В ней Шкловский вспоминает, как «варился у Бриков», «среди туркестанских вышивок, засовывая шелковые подушки за диван, пачкая кожей штанов обивку, съедая все на столе» [Шкловский, 2002, с. 359]. Эта раблезианская телесность на фоне буржуазной обстановки приписывается в «Третьей Мещанской» законному мужу Людмилы – Коле. Он сочетает в себе признаки брутального, но нервно-холодного Маяковского и «грязного», но чувственного Шкловского. Нашлись среди рецензентов и коллеги-«попутчики», которые высоко оценили культурный потенциал фильма: «Если еще не ленинским прожектором, то хотя бы с карманным фонарем А.П. Чехова пытались осветить мещанский уголок В. Шкловский и Абрам Роом» [Херсонский, 1927, с. 3]. Обращает на себя внимание попытка вписать формалистов в культурную традицию, характерное для второй половины 1920-х (ср. критические обзоры Михаила Бахтина (Павла Медведева), Бориса Энгельгардта) и принимающее здесь характер чисто литературной генеалогии.
Фильм достроил то, что осталось недосказанным в «Третьей фабрике», куда был, среди прочего, почти целиком включен литературный сценарий «Бухты зависти» – предыдущей совместной картины Роома и Шкловского. Семья и служба, заполняющие третий период литературной биографии Шкловского, осмыслены в «Третьей Мещанской» с горькой иронией. От предсказуемости и бессобытийности жизни можно сбежать, как это делает героиня фильма Людмила. Но от себя не убежишь – Шкловский, уехавший от своих единомышленников в Москву, хорошо это знает. Уместно было бы различить в любовном треугольнике «Третьей Мещанской» отношения Шкловского к друзьям и коллегам по науке. Триумвират, оставшийся в России, плюс заграничный Якобсон образуют параллель к любовному треугольнику фильма, к которому добавляется участвующая в сюжете кошка – символ мещанского уюта. Наконец, есть еще одна параллель с «квартетом», описанным у Маяковского, где к трем человеческим персонажам добавляется собака ЕЦеник [Зоркая, 1999, с. 212]. Эти наблюдения не означают, что герои фильма точно соответствуют каким-либо прототипам. В Людмиле, оставившей дом, узнаются черты как самого Шкловского, бежавшего за границу и в конце концов уехавшего в Москву, так и Якобсона, нежность к которому – следствие его романтически переживаемого отсутствия. В то же время «Третья фабрика» включает и письмо Льву Якубинскому, который не входит в «триумвират» из-за своих лингвистических интересов, но осознается как свой. Шкловский обращается к нему с попыткой научной программы и критики «нового учения о языке» Николая Марра, последователем которого в это время ненадолго становится Якубинский. Обращение к нему Шкловского, оформленное в жанре дружеского письма, является исключительно декларацией, маркирующей отличие формалистов от прочих школ. Таким образом, формалистский круг описывается в книге по той же схеме «3+1», которая сохраняется и в фильме, если считать кошку, заменившую собаку Щеника. Отъезд в Москву заставил Шкловского изменить профессию, но он задним числом пытается найти в этом симптомы позитивных перемен, тогда как его петербургские друзья Эйхенбаум и Тынянов остались дома отвечать за науку и развивать ее. Шкловскому жалко этой потери, но однозначно признать ее он не согласен.