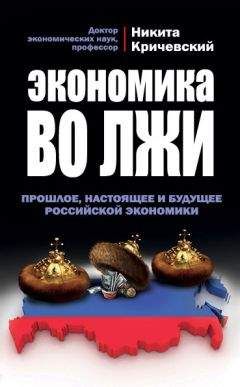Ян Левченко - Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии
Если традиционный критик ставит себя в позицию над литературой, чем себя нередко и дискредитирует, то формалисты в большей или меньшей степени совмещали позиции критика и литератора, стирая между ними зазор. Литература для них, с одной стороны, была приватным делом в духе пушкинского «Арзамаса», с другой – именно в таком качестве она устремлялась за пределы узкого круга посвященных, транслировалась в широкий культурный контенкст (ср. разработанную до этого на внешних примерах идею «канонизации младших жанров»). Ведь в любой интимности, получившей текстуальное воплощение, проступает лукавство: за ней неизбежно наблюдает кто-то со стороны (читатель, зритель) и тем самым ее отменяет. Быть над и быть вместе – прерогатива литератора в роли критика. При этом «сделанное», выраженное немедленно отчуждается и становится предпосылкой иронии. В точности по Шлегелю: ироничное творчество внутренне возвышенно, внешне снижено (или наоборот)[129].
Вследствие переезда Шкловского в Москву формалисты начали общаться на расстоянии, литературно обрабатывая дистанцию и упрочивая символическую связь внутри «триумвирата». Особые темы их обсуждения – стагнация интеллектуального поля, губительность самой перспективы построения карьеры, ревность учеников и кризис профессии на фоне усиливающейся несвободы литературы. «К тебе и Юрию приближается проклятый пушкинский возраст – мне очень больно за вас. <…> Мое счастье, что в ваши годы я попал в разгар революции и при светильне писал “Молодого Толстого”» [Панченко, 1984, с. 201]. Эйхенбаум пишет эти строки Шкловскому в апреле 1929 г., т. е. накануне кончины формализма, если традиционно рассматривать в качестве ее маркера статью «Памятник научной ошибке», выпущенную Шкловским годом позже. Своим не раз заклейменным отречением Шкловский попытался выйти из-под власти своих ранних открытий и преодолеть ранний кризис среднего возраста, пусть и ценой непонимания последователей. На отношения внутри триумвирата этот поступок не повлиял, до самой смерти Тынянова формалисты остаются втроем и постоянно рефлектируют о своей связанности работой, дружбой и случаем. «Трое нас, трое вас. Господи, помилуй нас, – пишет Эйхенбаум Шкловскому в марте 1940 г., цитируя рассказ Толстого “Три старца”. – Помнишь ли ты, что номер твоей квартиры 47, моей – 48, а Юры – 49? Это поразило меня раз и навсегда» [Кертис, 2004, с. 324]. Личное отношение к истории на фоне утверждений о ее, истории, независимости от этоса – основная мировоззренческая интрига формальной школы. При всей глубокой искренности и эмоциональной заряженности внутрицеховой переписки нельзя забывать, что это жанр «интимной» коммуникации. При этом даже инсайдеры формалистского круга, в частности, ученики, строившие свой миф об учителях, полагали, что дружба литературная и повседневная – это одно и то же[130].
Биография и автобиография – форма бытования монологической самости, способ ее идентификации и выражения, достраивающий диалогическую переписку, своего рода недостающее третье звено в структуре научной коммуникации. Эйхенбаум завершил эру своего позднего взросления «Временником», начав путь к себе от «Молодого Толстого». В стилизаторском сознании Тынянова рефлексия над своей эпохой и своим в ней местом прозрачно реализовалась в «Кюхле», фактически завершившем теоретический цикл его работ от «Достоевского и Гоголя» до «Проблемы стихотворного языка». Но более других темой своих отношений с русской литературой был озабочен Шкловский. Он никогда не испытывал недостатка в индивидуальной биографии. Точнее, выстраивал ее так, чтобы она была интереснее литературы и, тем более, исследования. Его конкиста продолжалась с 1916 по 1923 г.: война, революция, вновь война, военный коммунизм и террор в Петрограде (параллельно подъем ОПОЯЗа), преследования чекистов, эмиграция, не вполне внятная причина возвращения и цена, которую за него пришлось заплатить. Так состоялись путешествия по России (на западный и на восточный фронт), одно за границу (бегство и эмиграция) и по возвращении из Германии переезд из Петрограда в Москву. Примечательно, что этим перемещениям соответствуют три фазы в истории формального метода: 1) декларативная (статья «Воскрешение слова» на волне футуристских увлечений); 2) аналитическая, реализующая идею «поэтики» (одноименные сборники 1919–1921 гг.); 3) синтетическая, сталкивающая уровни объекта и метаязыка (с 1923 г. и до конца десятилетия).
Этот синтетический тип письма Шкловский начинает разрабатывать сначала в травелоге «Сентиментальное путешествие», затем в эпистолярном романе «ZOO, или Письма не о любви» и, наконец, в мемуарно-автобиографическом романе-коллаже «Третья фабрика». Три опыта переосмысления прозаических жанров в движении от ортодоксальных твердых форм к слабой, раздробленной форме, воскресающей бессюжетную литературу в духе Василия Розанова, которому Шкловский посвятил программный очерк в 1921 г., составили теоретическую трилогию. Здесь также следует отметить чувствительность к тернарному порядку и даже просто делению на три. «Сентиментальное путешествие» было трилогией, одна из частей книги называлась «Три года», книга «ZOO» имела подзаголовок «Третья Элоиза» и состояла из 29 писем и одного пространного эпиграфа в структурной роли предисловия, т. е. из 30 глав. Наконец, «Третья фабрика» – это итог, обнажающий структуру биографии. Он имеет трехчастную структуру и создан в 33-летнем возрасте, на чем автор настойчиво заостряет читательское внимание. Следует учесть, что между ним и эмигрантскими романами, полемически осмысляющими классические формы жанра, был выпущен приключенческий роман «Иприт», написанный в 1925 г. в соавторстве с Всеволодом Ивановым и пародирующий, подобно Мариэтте Шагинян в «Месс-Менде», массовый вкус[131]. Здесь предпринимается опыт снижения и расшатывания жанра, который «Третья фабрика» доведет до конца и даст начало новому проекту – книгам, сшитым из лоскутков, где научное письмо чередуется с литературным. При этом монтажный принцип «Третьей фабрики» восходит к радикальной повествовательной технике Бориса Пильняка, чью повесть «Третья столица» (1922) Шкловский внимательно разбирает в отдельной статье 1925 г., позднее вошедшей в сборник «Пять человек знакомых» (1927)[132].
«Третья фабрика» буквально сшита нитками отсылок с двумя предыдущими книгами. Она переводит осмысление теории формального метода в эмоциональный регистр, продолжая линию «ZOO». В предисловии, которое так и называется «Продолжаю», Шкловский говорит, что начинает с куска, лежащего на столе. Как в фильме к началу приклеивают ракорд, так «я прикрепляю кусок теоретической работы. Так солдат при переправе поднимает вверх свою винтовку» [Шкловский, 2002, с. 337]. С одной стороны, здесь подхватывается мотив сдачи, которым завершается 29-е, финальное письмо «ZOO», где описываются трупы аскеров с поднятой правой рукой – знаком капитуляции. Конечно, «поднять руку, сдаваясь» и «поднять винтовку на переправе», – это не одно и то же, прагматика этих жестов различна. Но спасение оружия оказывается следствием поражения – измены себе и главному делу, усталости от фельетонов и кино, в которое повествователь – quasi-ego Шкловского – погружается после переезда в Москву. С другой стороны, фраза отсылает к началу первой части «Сентиментального путешествия», где говорится о фольклорной истории, услышанной повествователем в трамвае: «Рассказ этот прикрепляется то к Варшаве, то к Петербургу» [Шкловский, 2002, с. 21]. Надо отметить, что прием «прикрепления», заметный здесь в сильной (инициальной) позиции текста, почти не встречается среди терминов поэтики Шкловского в отличие от «развертывания», «нанизывания», «задержания», «ступенчатого» и «параллельного строения». В «Теории прозы», суммирующей работы 1916-1924-х годов, речь о «прикреплении» заходит только в связи с Андреем Белым, в отношении которого Шкловский испытывает чувствительную общность[133]. Имеется в виду «Котик Летаев», где «механически построенное применение одного выражения к ряду, понятию <…> прикрепляется к традиционным тайнам. Здесь тайна дана как бессмыслица, как невнятица, невнятица чисто словесная, в которой упрекали Блока (и Белый упрекал), – невнятица, которая, может быть, нужна искусству» [Шкловский, 1929, с. 220]. Прикрепление выглядит и проще, и сложнее приемов, создающих каузальное единство текста. Этот прием, расшатывающий внутритекстовые связи, дает выход волюнтаризму автора и обнаруживает способность примыкающих фрагментов к взаимной ассимиляции (своего рода аналог «эффекта Кулешова» в кино, когда произвольный монтаж кадров придает изображаемым предметам тот или иной смысл).
Автор сам решает, что с чем будет связано – он и есть гарантия повествовательного единства[134].