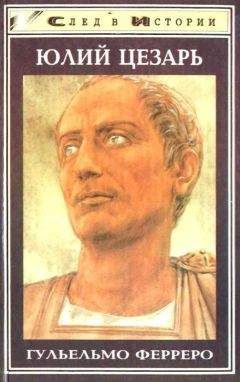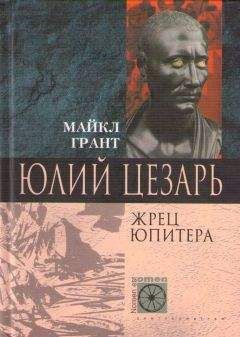Иоэль Вейнберг - Человек в культуре древнего Ближнего Востока
Не менее показательно для древневосточного восприятия социальной группы растущее с течением времени признание значения и престижности профессиональных социальных групп и принадлежности к ним индивида. Это находит выражение в крепнущем самосознании членов профессиональных групп, в горделивом подчеркивании своей корпоративной принадлежности путем включения их названия в полное наименование или самоназвание человека. Когда Надин, сын Бел-аххе-Ики-ши, потомок Эгиби (VI в. до н. э.), в многочисленных своих документах иногда пропускает имя отца или родовое имя, но всегда указывает свой титул «писец Эанны» [35, с. 101 и сл.], то это такое же выражение горделивого самосознания своей принадлежности к престижному ремеслу писцов, как обычай указывать профессиональную принадлежность в личных печатях: «(Принадлежащая) Берехйаху, сыну Нерийаху, писцу», «(Принадлежащая) [Зе]карйаху, жрецу в Доре» — или упоминать имя изготовителя вещи, как на финикийской надписи: «Лимирн, ликиец, изготовитель чаш (фиал)» [130, с. 122], и др.
В словах гераклеопольского (до XXII в. до н. э.) варианта мифа творения о том, что после сотворения богом Ра людей, животных «он создал для них (людей) князей (еще) от яйца, правителей, чтобы поднять хребет слабого» [78, с. 85], можно усмотреть попытку включить в модель мира новое социально-политическое явление — носителей власти — путем отнесения их к первичному времени творения. Но в глазах гераклеопольского царя Ахтоя Уахкара (XXII в. до н. э.) такие социальные группы, как «вельможи» и «бедняки», представляют собой уже установившиеся данности со строго очерченной характеристикой, ибо «не пристрастен тот, кто богат в своем доме, он владыка вещей и не нуждается», а бедняк «не говорит… правды. Несправедлив говорящий: „О, если б я имел“. Пристрастен он к тому, кто владыка подаяний его» [118, 1, с. 32]. Во всем древневосточном законодательстве меры наказания и вознаграждения за услуги сословно определены (см. гл. II). Принадлежность к сословной группе — основной элемент при определении статуса индивида государством, законом, обычаем. Но вот что показательно: в отличие от многочисленных, преисполненных чувством собственного достоинства демонстраций древневосточным человеком своей принадлежности к семейно-родовой, локальной и профессиональной группам упоминания принадлежности к сословной группе крайне редки. Не исключено предположение, что сословная принадлежность индивида на древнем Ближнем Востоке, будучи определяющим элементом его статуса, еще не стала элементом его самоопределения. Причина того, что сословная группа по-разному воспринималась «сверху» — с позиции царя, царской администрации, закона и т. д. — и «снизу» — с позиции индивида, возможно, заключается в том, что тесная привязанность «я» древневосточного человека к четко оформленным микрогруппам, таким, как семейно-родовая, возрастная, локальная и профессиональная, мешала ему воспринять гораздо менее четкую и компактную макрогруппу, какой на древнем Ближнем Востоке было сословие (в отличие, например, от индийской варны).
Вероятность такого объяснения подтверждается тем фактом, что в иерархии социальных групп различные неоформившиеся социальные группы — «гости», «друзья» и пр. — отмечены лишь малой степенью значимости и ценности. Особенно отчетливо это проявляется на примере дружбы, определяемой как отношение сугубо личностное, добровольное и индивидуально-избирательное, глубокое и интимное, свободное от заданности и предопределенности, не преследующее никаких утилитарных целей и являющееся благом само по себе и т. д. [65, с. 136]. Феномен «дружба» не чужд древневосточному человеку: друзьями называют себя Гильгамеш и Энкиду, и в словах Гильгамеша об умершем Энкиду:
Друг мой, которого так люблю я,
С которым мы все труды делили
звучат мотивы эмоциональной близости. Но скорее всего они были побратимами и принадлежали к очень важной и распространенной на древнем Ближнем Востоке категории искусственного родства. Приметы истинной дружбы, личностной и добровольной, лишенной всякой утилитарности, связывают Давида с Иехонатаном. Это подлинно бескорыстная дружба, особенно со стороны Йехонатана, поскольку Давид враг его отца Шаула и соперник его самого. Однако «друзья» и подобные неоформившиеся социальные группы не слишком привлекают древневосточного человека не только из-за их аморфности, но также из-за той степени индивидуализации, которую они предполагают и стимулируют, но которая представляется ему чрезмерной и неприемлемой.
Древневосточный человек входил одновременно в несколько различных по своей сущности социальных групп. Осознание им своей одновременной принадлежности к этим группам «интенсифицирует деятельность самосознания, которое должно как-то совместить и интегрировать эти множественные и противоречивые определения» [66, с. 132]. То обстоятельство, что один и тот же индивид по-разному проявляет себя в качестве заботливого отца и ворчливого старика, доброго соседа и умелого писца, высокомерного богача и т. д., что он по-разному воспринимается различными людьми в различных общностях, несомненно, стимулирует процесс индивидуализации древневосточного человека, его осознание себя личностью, индивидуальностью. Но вместе с тем именно факт непременной связанности индивида с социальными группами лимитирует возможности, пределы подобной индивидуализации, другой преградой для которой служит основополагающая в древневосточной жизни и модели мира оппозиция «мы — они».
* * *В восприятии человеком людских общностей, пишет Б. Ф. Поршнев [98, с. 81], «„они“ еще первичнее, чем „мы“… Только ощущение, что есть „они“, рождает желание самоопределиться по отношению к „ним“, обособиться от „них“ в качестве „мы“». Это означает, что оппозиция «мы — они» служит основой оформления и функционирования отношений между племенами, культовыми общностями и т. д., а в конце рассматриваемого периода отношений между этносами. Подтверждают этот тезис частые изображения в древневосточных словесных и изобразительных текстах военных столкновений и торговых сношений, прихода данников и пр. — т. е. проявлений опозиции «мы — они». Особенно доказательна высокая степень повторяемости «этнического» словаря, например, в Ветхом завете [223, с. 22 и сл.], где слово «наш» народ, народность ам) упоминается около 1800 раз, а слово «их» народ (гой) — 555 раз, в чем отчетливо и наглядно проявляется противопоставление «мы — они» в восприятии этноса ветхозаветного человека.
Мы уже видели (см. гл. III), что восприятие пространства-времени древневосточным человеком характеризуется предметной наполненностью и аксиологичностью, обусловленной качеством этих предметов. Сочетание представления о расчлененности пространства на «свой мир» и «чужой (окружающий нас) мир» с оппозицией «мы — они» приводит древневосточного человека к основополагающему представлению об организованном, упорядоченном, «хорошем» пространстве как о «нашем» пространстве, за пределами и вокруг которого располагается «их» неорганизованное, хаотичное, «дурное» пространство. Данное представление пронизывает древневосточную культуру, особенно на первом этапе ее развития. Оно проявляется, например, в знаменитой «Стеле Нарам-Суэна», изображающей поход царя Аккаде (XXIII в. до н. э.) против «них», племени лулубеев. «Они» показаны на стеле нарочито хаотично, беспорядочно: лежащие тут и там тела убитых и раненых, падающие в ущелья, молящие о пощаде, что подчеркивается столь же хаотичным, диким ландшафтом: искривленные ветрами деревья, мрачные ущелья, извилистые тропы. Лулубеям противопоставлены стройные, упорядоченные ряды «нас». Тот же подход демонстрирует «Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара»: «Подл азиат, плохо место, в котором он живет, — бедно оно водой, трудно проходимо из-за множества деревьев, дороги тяжелы из-за гор» [118, 1, с. 34]. «Плохое пространство — плохие „они“ — плохие „они“ — плохое пространство» — подобное представление является общим для всего древнего Ближнего Востока, но с течением времени острота противопоставления смягчается, и некоторая организованность, упорядоченность признается также за «их» пространством. В «Рассказе Синухета» сказано, что в чужой стране «я (Синухет) давал воду жаждущему, я указывал дорогу заблудившемуся, я заботился об ограбленном» [102, с. 15–16]. Заслуживает самого пристального внимания тот факт, что данное (и ему подобные) признание возможной упорядоченности и организованности «чужой» страны сопряжено с присутствием в ней человека мира порядка — египтянина Синухета, вносившего туда этот порядок. Не означает ли это, что представление конфуцианства о мироустроительной функции императора, устраняющего путем распространения своей власти над варварами («они») свойственный им хаос и приобщающего их таким образом к миру порядка [77, с. 72–82], не было чуждо также человеку древнего Ближнего Востока? Во всяком случае, слова Дария I в надписи из Накши-Рустама: «Когда Ахура-Мазда увидел эту землю в состоянии смятения, тогда он передал ее в мои руки, сделал меня царем. Я — царь. По воле Ахура-Мазды я ее [землю] поставил на место. То, что я им [подвластным народам] повелевал, то они выполняли в соответствии с моим желанием. Если ты подумаешь: сколь многочисленны были страны, которыми владел Дарий царь, то посмотри на изображение подданных, поддерживающих трон» [118, 2, с. 36], и другие подобные высказывания допускают такое предположение.