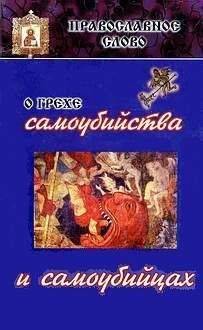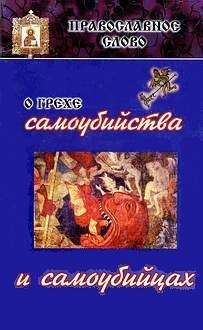Соломон Волков - История культуры Санкт-Петербурга
Для осуществления этой грандиозной задачи Рубинштейн оказался идеальной фигурой. Небольшого роста, коренастый, с гривой волос, внешне необычайно похожий на Бетховена (Рубинштейн не отрицал слухов, что он – бетховенский незаконный отпрыск), русский пианист обладал, помимо исполнительского и композиторского дарований, несокрушимой энергией и самоуверенностью.
Вдобавок Рубинштейн приобрел столь нужные для успеха своего предприятия связи с императорской фамилией. Еще мальчиком он играл в Зимнем дворце, где император Николай встретил его словами: «А, ваше превосходительство». «Мне сказали, – вспоминал позднее Рубинштейн, – что слово царское – закон и что мне следовало бы сказать, и я был бы «превосходительством».
Николай заставлял маленького Рубинштейна передразнивать игру Листа (со всеми листовскими гримасами) и довольно хохотал; забавного вундеркинда осыпали драгоценными подарками. И как утверждал Рубинштейн на склоне дней, щедрее императорских подарков он не видел нигде, в особенности если их вручали тут же, на вечере в Зимнем дворце: «То, что присылалось через день, не представляло такой ценности. Тут, – добавлял туманно Рубинштейн, – бывали всякие злоупотребления».
Рубинштейн стал чем-то вроде музыкального секретаря (по его выражению, «истопником музыки») великой княгини Елены Павловны, жены брата императора Николая, великого князя Михаила. Тот был солдафоном, а Елена Павловна, красивая и сумасбродная немецкая принцесса из Вюртемберга, стремилась и в Петербурге создать свой, ориентированный на Европу интеллектуальный и художественный мирок.
Постепенно эта, по признанию даже ее непримиримых врагов, «высокозанимательная, важная и интересная» немка стала главной покровительницей искусств в России. В длинных вечерних разговорах Рубинштейна с Еленой Павловной в ее дворце на Каменном острове, где пианист поселился, окончательно оформилась идея организации в Петербурге консерватории. (Впечатления от этих бесед, от жизни во дворце и окружающих петербургских пейзажей отразились в прелестных фортепианных пьесах Рубинштейна, объединенных им в циклы «Каменный остров» (1853–1854), «Бал» (1854) и «Soirées a St.-Petersbourg» (1860).
Но при жизни Николая из затеи «европеизировать» русскую музыкальную жизнь ничего не вышло. Рубинштейн вспоминал, что когда он в 1849 году вернулся из революционного Берлина в Петербург, то сундук с его музыкальными композициями был конфискован на таможне; подозревали, что в нотах зашифрована политическая крамола. В Петербурге же на случайно оказавшегося без паспорта Рубинштейна столичный генерал-губернатор топал ногами и кричал: «В кандалы тебя закую! В Сибирь сошлю!» А петербургский полицмейстер послал «беспаспортного» артиста, к тому времени уже европейскую звезду, к начальнику своей канцелярии: «Сыграй ему что-нибудь, чтоб мы знали, что ты и впрямь музыкант».
В такой атмосфере говорить об уважении к музыкантам казалось делом безнадежным, но Рубинштейн не сдавался: в 1859 году он с помощью великой княгини Елены Павловны организовал Русское музыкальное общество, позднее получившее название «Императорского». Елена Павловна стала «августейшей председательницей» этого общества, начавшего презентацию в Петербурге регулярных симфонических и камерных концертов часто с весьма смелыми программами. При обществе открылись музыкальные классы, которые с 1861 года были, наконец, преобразованы в Петербургскую консерваторию, первую в России.
Это был шаг огромной важности. Именно в Петербурге были заложены основы исполнительских и композиторских школ, которым в XX веке было суждено завоевать весь культурный мир. Имена Хейфеца, Эльмана, Цимбалиста, Мильштейна, Мравинского, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича говорят сами за себя. В Петербургской консерватории учился также Джордж Баланчин, в разговорах со мной с нежностью и благодарностью вспоминавший о своих музыкальных менторах.
Наплыв желающих учиться в первой русской консерватории был огромным, хотя случались и курьезы – вроде появления дамы, притащившей к Рубинштейну своего сына-кретина, «потому что его отовсюду гонят, так пускай изучает музыку». Первые студенты (их было 179 человек) представляли собой пеструю толпу, съехавшуюся из разных уголков империи; и среди них – старший столоначальник департамента Министерства юстиции 22-летний Петр Чайковский.
Сразу же начались и нападки, посыпались весьма типичные для России обвинения, претензии и жалобы – и на идею консерватории, и на Рубинштейна персонально. Владимир Стасов, громогласный, темпераментный и с годами все более влиятельный критик, доказывал, что высшее образование полезно для науки, но не для искусства: университеты дают сумму знаний, а консерватории вмешиваются «самым вредным образом в творчество», «служат только рассадником бездарностей и способствуют утверждению вредных понятий и вкусов».
Стасов, которого друзья называли «Бах», а Салтыков-Щедрин – «Неуважай-Корыто», уверял, что для развития подлинно русской музыки нужнее небольшие школы. Этим он отстаивал важную традицию петербургских музыкальных кружков, уже давших к этому времени примечательные художественные результаты. Один из самых интересных кружков такого рода сложился в конце 50-х годов вокруг композитора Александра Даргомыжского.
* * *Богатый помещик Даргомыжский уже давно собирал у себя поклонников своего творчества, преимущественно молодых и хорошеньких певиц-любительниц. С ними маленький, усатый, похожий на кота Даргомыжский, подражая Глинке, часами просиживал за освещенным двумя стеариновыми свечами фортепиано, аккомпанируя исполнявшим его отточенные и выразительные романсы прелестным ученицам, с наслаждением подпевая им своим странным, почти контральтовым голосом. Так прозвучал завоевавший популярность среди музыкальных дилетантов столицы цикл изящных, оригинальных и мелодически богатых вокальных ансамблей Даргомыжского «Петербургские серенады».
После успеха оперы Даргомыжского «Русалка» (на сюжет Пушкина, поставленной в Петербурге в 1856 году) к нему стали все чаще наведываться в гости также и начинающие композиторы. Среди них были приехавший в Петербург из Нижнего Новгорода 19-летний дворянин Милий Балакирев и молодой военный инженер (выпускник того же училища, что и Достоевский) Цезарь Кюи, родившийся в Вильно сын француза и литовки. Оба были блестяще одаренными музыкантами, которых Даргомыжский оценил по достоинству. Скоро к ним присоединился сын псковского помещика, гвардеец Модест Мусоргский – «очень изящный, точно нарисованный офицерик» с аристократическими манерами, умевший сладко и грациозно играть на фортепиано отрывки из «Трубадура» и «Травиаты» и гордый тем, что 13-летним мальчиком «был удостоен особенно любезным вниманием покойного императора Николая» (это из «Автобиографической записки» Мусоргского от 1880 года).
В компании этих молодых гениев Даргомыжский буквально расцвел, его романсы становились все более острыми и смелыми. Если музыку Глинки можно считать конгениальной творениям Пушкина, то опусы Даргомыжского начинали явственно перекликаться с «петербургскими повестями» Гоголя и миром «Физиологии Петербурга».
В эти годы в России большой популярностью пользовались переведенные на русский язык сатирические песни французского поэта Беранже. На тексты Беранже Даргомыжский создал два своих специфически петербургских шедевра в жанре оригинально развитой, театрализованной баллады: почти сценические монологи, в которых сюжеты француза, пересаженные на русскую почву, звучали вольнодумно и вызывающе. «Старый капрал» был фронтальной атакой на одну из двух главных опор николаевской империи – армию, «Червяк» – на другую, чиновничью иерархию.
С чисто художественной точки зрения это два великолепных мелодраматических музыкальных рассказа с благодарной и выразительной вокальной партией и острым аккомпанементом. Великий русский бас Федор Шаляпин вспоминал, как он пел «Старого капрала» Льву Толстому в его доме (за роялем сидел 26-летний Сергей Рахманинов): «Когда я со слезами говорил последние слова расстреливаемого солдата:
«Дай Бог домой вам вернуться» —
Толстой вынул из-за пояса руку и вытер скатившиеся у него две слезы».
Точно так же бывали тронуты слушатели, когда Шаляпин с русским надрывом исполнял «Червяка» и другую песню Даргомыжского о несчастном, забитом чиновнике – «Титулярного советника», с их броской, почти карикатурной обрисовкой персонажей, находившихся в кровном родстве с героями гоголевских «Записок сумасшедшего» и «Шинели», с «чернью петербургских углов», по выражению враждебного критика.
Создавая в конце 50-х годов эти свои язвительные и в то же время в высшей степени сострадательные зарисовки, Даргомыжский почти диктовал вокалистам манеру их исполнения, вписывая, в манере какой-нибудь из драматических сценок Гоголя, многочисленные авторские ремарки: «вздохнув», «прищурив глаз», «улыбаясь и заминаясь». Эта характерность и точность в деталях в соединении с общерической и гуманистической направленностью ставили Даргомыжского рядом с последователями Гоголя из «натуральной школы» и сблизили его с радикальными литераторами, сгруппировавшимися вокруг популярного петербургского сатирического журнала с левым уклоном «Искра».