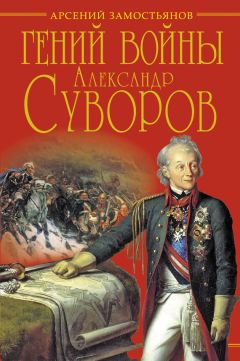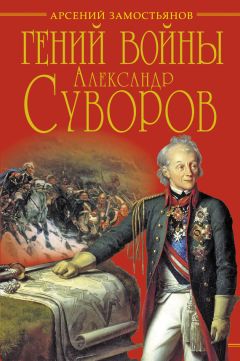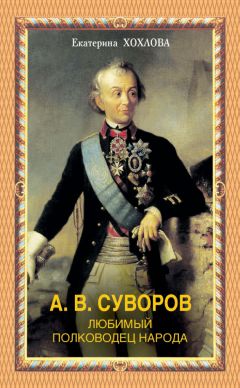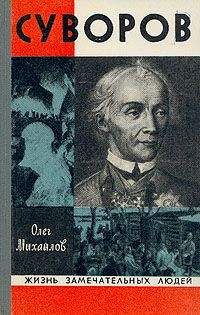Александр Суворов. Первая шпага империи - Замостьянов Арсений Александрович
Итальянский поход
Взлёту славы предшествовала опала. А точнее, травля. Первый жест государя считался демонстративно дружественным по отношению к Суворову: великого екатерининского фельдмаршала назначили шефом Суздальского пехотного полка. Знак монаршей милости! Рескрипт Павла Суворову в Тульчин от 15 декабря 1796 года вышел на редкость тёплым. Зная эксцентрический нрав полководца, Павел писал ему с аллегориями и поговорками:
«Граф Александр Васильевич. Не беспокойтесь по делу Вронского. Я велел комиссии рассмотреть, его же употребить. Что прежде было, того не воротить. Начнём сначала. Кто старое помянет, тому глаз вон, у иных, правда, и без того по одному глазу было. Поздравляю с новым годом и зову приехать к Москве, к коронации, естли тебе можно. Прощай, не забывай старых друзей. Павел».
И только в постскриптуме таилась угроза:
«Приведи своих в мой порядок, пожалуй».
Это письмо — очень откровенное и яркое. Павел не скрывал своей ненависти к екатерининскому наследию и в не чуждой Суворову манере казарменного юмора прошёлся по одноглазому князю Таврическому.
Что касается «дела Вронского», которое упомянул император, здесь речь шла о стараниях одного сутяги, секунд-майора Вронского, который в 1795-м в Варшаве подал Суворову жалобу на злоупотребления провиантских служб. Первоначально Суворов относился к Вронскому уважительно, даже симпатизировал этому офицеру. Оказалось, «пригрел змею». Суворов начал следствие, наказал виновных, а Вронскому, как доносчику, уплатил солидную сумму — более 15 тысяч рублей. Однако Вронский на этом не успокоился, принялся вмешиваться во все финансовые дела армии, начал разоблачать офицеров Суворовского штаба в сношениях с прусскими шпионами (при этом сам Вронский водил сомнительного свойства дружбу с прусским майором Тилем). К пруссакам Суворов в то время относился с явным раздражением в том числе и потому, что считал несправедливым их участие в разделах Польши, оплаченное русской кровью. К тому же, несмотря на полученные деньги, Вронский влез в долги и даже пытался бежать из Варшавы. Он был задержан русскими постами. В конце концов его принудили вернуть долги и выслали из Варшавы по месту службы. Вронский возбудил новое дело — и после смерти Екатерины Павел приказал возобновить следствие. В письме Суворову император призывал Суворова не беспокоиться, но на самом деле уже через месяц фельдмаршалу пришлось писать Павлу пространное письмо с объяснениями по делу Вронского. Это дело стало первой ласточкой среди многочисленных процессов, прямо или косвенно бивших по Суворову в дни его опалы.
Суворов откликнулся на павловские нововведения (по существу, уничтожившие сделанное великими реформаторами русской армии) не только едким экспромтом: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, сам я не немец, а природный русак!», но и аргументированной критикой прусских традиций, сохранившейся прежде всего в переписке с Хвостовым. А Хвостов так и не приобрёл благоразумной привычки уничтожать бумаги… Впрочем, самые ретивые царёвы слуги всегда читали письма Суворова прежде всех адресатов.
Всё в стране пытались привести к прусскому знаменателю, всё переустраивалось по иноземному образцу. Даже мосты и будки были, как вспоминал А. С. Шишков, «крашены пёстрой краской» — точь-в-точь как в Пруссии.
Дискуссия полководца и императора продолжалась недолго. В январе 1797 года Павел предоставил Суворову последний шанс личным письмом: «С удивлением вижу я, что вы без дозволения моего отпускаете офицеров в отпуск, и для того надеюсь я, что сие будет в последний раз. Не меньше удивляюсь я, почему вы входите в распоряжение команд, прося предоставить сие мне… Рекомендую во всём поступать по уставу». По традиции фельдмаршал должен был смириться, покаяться, но Суворов считал этот устав «найденным в углу развалин древнего замка на пергаменте, изъеденном мышами». В очередном письме Хвостову Суворов обнаружил невиданную запальчивость: император затронул самую заветную струну в душе полководца, крепко обидел старого солдата. Вот и Суворов писал как никогда резко: «Государь лучше Штейнвера не видал. Я — лучше прусского покойного великого короля: я, милостью Божиею, баталии не проигрывал». Эти слова дошли до Павла, конечно, помимо воли Хвостова. Пылкий император разочаровался в Суворове: «Удивляемся, что Вы, кого мы почитали из первых ко исполнению воли нашей, остаётесь последними». По этому известному высказыванию видно, что изначальное уважение Павла к суворовским сединам имело место быть.
Суворов резко критиковал павловский «Опыт полевого воинского искусства», заимствованный из книги «Тактика или дисциплина по новым прусским уставам» (1767). Старый фельдмаршал называл этот «Опыт» «воинской расстройкой». Сначала Павел практиковал положения «Опыта…» в гатчинских войсках, а взошедши на престол, превратил эту книгу в «Записной устав о полевой пехотной службе». В «тактических классах» приглашённые прусские офицеры обучали русских коллег новому строю. Тяжко приходилось сносить такие унижения, покорители Измаила и Праги морщились, подчинялись, однако не смирялись в душе. А Суворов и не молчал.
К началу 1797 года фельдмаршал чувствовал себя в тупике, в западне. Терпеть торжество пруссачества не было мочи. Русскую армию — сильнейшую в мире — раздирали, вытаптывали. В начале января Суворов подал государю рапорт с просьбой отправить его в годичный отпуск «в здешние мои Кобринские деревни» для восстановления сил. Павел ответил отказом.
В армии зрело недовольство императором. Суворов мог стать лидером оппозиции. Хотя… Генерал Алексей Ермолов рассказывал: «Однажды, говоря об императоре Павле, он (Каховский. — Прим. А.З.) сказал Суворову: „Удивляюсь вам, граф, как вы, боготворимый войсками, имея такое влияние на умы русских, в то время как близ вас находится столько войск, соглашаетесь повиноваться Павлу“. Суворов подпрыгнул и перекрестил рот Каховскому: „Молчи, молчи, — сказал он. — Не могу. Кровь сограждан!“». Старый солдат не пошёл на расшатывание армии и государственности, не пошёл на смуту.
Через месяц, 3 февраля, Суворов направил в Петербург прошение об отставке. И получил удивительно быстрый ответ от генерал-адъютанта его императорского величества Фёдора Ростопчина: «Государь император, получа донесения вашего сиятельства от 3 февраля, соизволил указать мне доставить к сведению вашему, что желание ваше предупреждено было и что вы отставлены ещё 6-го числа сего месяца».
Молва сохранила императорский комментарий к отставке, брошенный им на разводе полков столичного гарнизона: «Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь, что так как войны нет и ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы». Суворова отставили без почётного права ношения фельдмаршальского мундира.
Победитель ещё полтора месяца прожил при армии в Тульчине, ожидая разрешения на отъезд из армии. Наконец, сдал командование Екатеринославской дивизией генерал-лейтенанту А. А. Беклешову и отбыл в Кобрин. А в Кобринском имении Суворова ждал новый императорский указ, который доставил печально известный благодаря этой миссии коллежский асессор Юрий Николев: царь запрещал Суворову оставаться в Кобрине. Ему предписывалось поселиться в Кончанском — в своём далёком северном имении. Это напоминало арест. Николев исполнял полицейскую обязанность надзора за отставным фельдмаршалом.
Особенно жестоким испытанием выдался первый год царской немилости. Своего надзирателя — Николева — Суворов поселил в очень скромной избушке: он умел быть надменным с негодяями. Николеву пришлось провести несколько месяцев в лишениях, зато карьера его после «кончанской» миссии пойдёт вверх… Ссыльный Суворов пел в церкви, крестил ребятишек, продолжал свои ежедневные спартанские тренировки с холодной водой и утренними пробежками… Однако главное — старик следил за ходом политических событий в Европе, главным героем которых являлся генерал Бонапарт, ставший впоследствии императором Наполеоном. Незадолго до отставки в письме А. И. Горчакову Суворов дал Бонапарту красноречивую характеристику и даже, как показала история уже XIX века, напророчил крах гениального французского авантюриста: «Пока генерал Бонапарт будет сохранять присутствие духа, он будет победителем; великие таланты военные достались ему в удел. Но ежели, на несчастье свое, бросится он в вихрь политический, ежели изменит единству мысли, он погибнет».