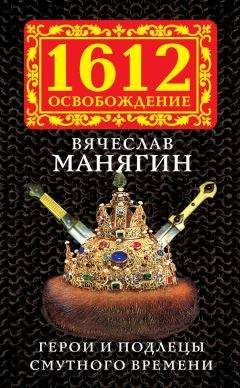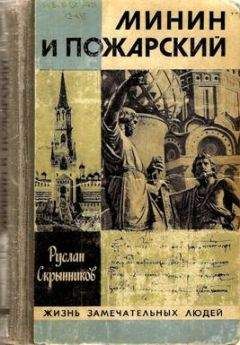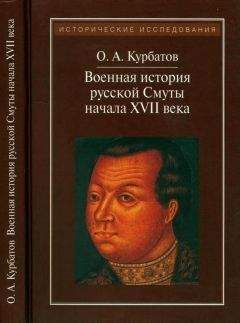Юрий Эскин - День народного единства: биография праздника
Например, Страленберг пишет о том, что посольство Земского собора было направлено к избранному царю в Углич, а не в Кострому. Возможно, это мелочь, но для историка такое отношение к деталям в позднем историко-географическом сочинении подобно приговору автору и его тексту. Очевидно, что Страленберг был плохо подготовлен для роли историографа в теме избрания Михаила Федоровича на царство, но все же необходимо разобраться, почему на его известие обращается столь пристальное внимание. Рассказывая о посольстве «сенаторов и депутатов со многими придворными служительми и богатою свитою», Филипп Иоганн Страленберг имел в виду, конечно, спроецированный на прошлое церемониальный порядок, свидетелем которого он мог быть сам в Швеции или при российском дворе.
Реалии эпохи русской Смуты начала XVII в. давались Страленбергу с большим трудом. Так, например, он описывал переговоры сенаторов (надо понимать, бояр. – В. К.) с матерью царя Михаила, которую не знал по имени и ошибочно считал ее сестрой боярина Федора Ивановича Шереметева. Рассказ о предыстории коронации Михаила Федоровича дополнен известием о боярской клятве «пред олтарем» и подписании неких «пунктов», содержавших обязательства нового царя:
«Прежде ж венчания обнадежены и подписаны были рукою его следуюсчия пункты: 1) обязался он содержателем и засчитником веры быть; 2) все, что отцу его не случилося, предать забвению и ни над кем, кто б какого звания ни был, партикулярной своей вражды не памятовать; 3) никаких новых законов не чинить, ниже старыя отменять, вышния и важнейшия дела по законом також и не одному собою, но чрез порядочное произвождение суда определять; 4) войны и мира точию для себе самого с соседами своими не чинить и 5) все свое имение для оказания правосудия и для уничтожения всяких тяжеб с партикулярными людми, или своей фамилии уступить или соединить оное з государственным» [20, 81–82].
Единственное, что можно сказать об этом перечне всерьез, что в известии Страленберга отдаленным эхом отразились условия, обсуждавшиеся при избрании на московский престол королевича Владислава в 1610 г. Как в статьях, обсуждавшихся тушинскими боярами с королем Речи Посполитой Сигизмундом III под Смоленском 14 февраля 1610 г., так и в августовском договоре московской Боярской думы об избрании королевича Владислава первым пунктом стояло сохранение «светой православной веры греческаго закона». Приписывать такой пункт Михаилу Романову – сыну митрополита Филарета – было, по меньшей мере, излишне. Другие пункты о порядке принятия новых законов и объявлении войны тоже могут быть соотнесены с документами об избрании королевича Владислава, но никакого текстуального заимствования из них у Страленберга нет. Представление о существовании письма с подробным перечнем разных обязательств русских самодержцев было экстраполировано Страленбергом и на сына Михаила Романова – царя Алексея Михайловича. Якобы его короновали на царство «без избрания, однако со обнадеживанием выше изображенных кондицеи, которыми он с клятвою пред олтарем учиненною обязался». Григорий Котошихин, напротив, писал про царя Алексея Михайловича: «А нынешнего царя обрали на царство, а писма он на себя не дал никакого, что прежние цари давывали» [20, 86].
Не случайно, что В. Н. Татищев не удержался и оставил примечательную пометку на полях рукописного перевода сочинения Страленберга: «О кондициях с клятвою сусчия враки» [60, 148]. Исчерпывающая характеристика первого русского историка, к которой нечего добавить… Правда, в своих более ранних публичных выступлениях В. Н. Татищев признавал существование «ограничительной записи» царя Михаила Федоровича.
В своем сочинении «Произвольное и согласное разсуждение и мнение собравшегося шляхетства руского о правлении государственном», вызванном к жизни обстоятельствами воцарения Анны Иоановны в 1730 г., Татищев писал: «Царя Михаила Федоровича хотя избрание было порядочно всенародное, да с такою же записью, чрез что он не мог ничего учинить, но рад был покою» [60, 148].
Василию Татищеву, отстаивавшему самодержавный порядок правления в России от притязаний аристократов, сведения об «ограничительной записи» родоначальника романовской династии царя Михаила Федоровича только мешали. Но он не покривил душой и воспроизвел те представления, которые существовали у многих его современников, ставивших свои подписи под «Произвольным и согласным рассуждением и мнением…» шляхетства о будущем образе правления в Российской империи. Хотя позже, как свидетельствует пометка на страницах перевода сочинения Страленберга, историк, а не политик Татищев полностью отказался от того, чтобы признавать за историей с «кондициями» Михаила Федоровича хоть какое-то значение.
Осталось упомянуть еще об одном иностранном сочинении – Иоганна-Готгильфа Фоккеродта, служившего секретарем прусской миссии в России, – «Россия при Петре Великом». Работа Фоккеродта – это практически служебный отчет, содержавший общий обзор преобразований Петровской эпохи, свидетелем которых был автор. Она была завершена в сентябре 1737 г., по окончании службы Фоккеродта, и представлена прусскому двору. Один из разделов «России при Петре Великом» посвящен ответу на вопрос: «Какую перемену сделал Петр I в образе правления Русского царства?» Для этого Фоккеродт обращается к изучению исторической традиции и справедливо пишет, что впервые вопрос об ограничении царской власти возник при избрании царя Василия Шуйского и по его инициативе, причем «все боярское сословие умоляло его с земными поклонами не выпускать столь легко из рук такого драгоценного алмаза и украшения русского скипетра, каким было самодержавие». Фоккеродт упоминает о влиянии на русских бояр и будущего патриарха Филарета, «который еще не мог предполагать, что выбор падет на его сына», неких «республиканских правил». А дальше говорит об избирательном Земском соборе, на котором «многими из самых знатных лиц» были предварительно выработаны положения, которые должен был принять будущий русский царь:
«Они составили между собою род сената, который назвали Собором: не только бояре, но и все другие, находившиеся в высшей государственной службе, имели там место и голос и единодушно решились не выбирать себе в цари никого, кроме того, который под присягой обещается предоставить полный ход правосудию по старинным земским законам, не судить никого государскою властью, не вводить новых законов без согласия Собора, а тем менее отягощать подданных новыми налогами или решать что бы то ни было в делах войны и мира. А чтобы тем крепче связать нового государя этим условиями, они положили еще между собой не выбирать в цари такого, у которого сильное родство и сильные приверженцы, так как с помощью их в состоянии он будет нарушить предписанные ему законы и присвоить опять себе самодержавную власть» [63, 27–28].
Этот подробный рассказ был бы неоценимым источником, вводящим нас в атмосферу предвыборных обсуждений на Земском соборе 1613 г., если бы он опять, как и в случае с сочинением Филиппа Иоганна Страленберга, не отстоял более чем на сто двадцать лет от самих событий или хотя бы не принадлежал перу иностранца, явно знакомившегося с далекой русской историей не по источникам, а по рассказам разных лиц. Нет никаких доказательств того, что «царь Михаил не колеблясь принял и подписал вышеупомянутые условия», которые соблюдал до возвращения из польского плена своего отца патриарха Филарета, сумевшего воспользоваться противоречиями между «низшим дворянством» и «властолюбивым боярством», чтобы поломать установившийся порядок и одному опекать сына [63, 29]. Все, что пишет об этом Фоккеродт, приходится принимать на веру, что и делалось в примечаниях Э. Миниха (сына) к публикации записок К. Г. Майнштейна о России, а затем в «Материалах по русской истории» К. Шмидта-Физельдека (гувернера в семье Миниха-сына), изданных в Риге в 1784 г. Следовательно, записка Фоккеродта «Россия при Петре Великом» является лишь дополнительным свидетельством того простого вывода, что в домах знати любили обсуждать начало романовской династии и, возможно, с окончанием петровского времени, искали там исторические аналогии.
В вопросе об ограничении самодержавия царя Михаила Романова очень заметно стремление притянуть дела прошедшего века к актуальным государственным вопросам. Скажется это и позднее, уже в научной полемике, когда признание или непризнание «ограничительной записи» станет ярким индикатором либерального или консервативного правосознания. У ученых существует справедливое желание противостоять одиозным крайностям монархистов и показных патриотов, не желающих даже слышать о возможном ограничении самодержавия в России в 1613 г. Такое вторжение политики в современность обычно ни к чему хорошему не приводит. Задача историка не в том, чтобы выбрать более близкую ему идеологическую традицию, а в том, чтобы исследовать сохранившиеся источники или объяснить их отсутствие, на чем и держится научная, а не публицистическая интерпретация исторических фактов. А они определенно свидетельствуют, что поиск «ограничительных» документов царя Михаила Федоровича является тупиковым и лишь отвлекает от изучения обстоятельств сложного пути выхода Русского государства из тяжелого Смутного времени начала XVII в.