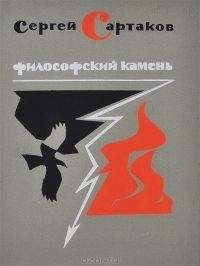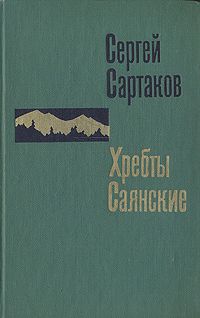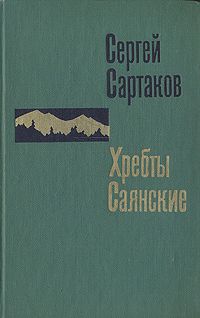Сергей Сартаков - Свинцовый монумент
- Ну-ну, не знаю, - растерянно сказал Седельников. - А какие у кошки должны быть зрачки? И усы, погоди, усы...
- Значит, ты вообще никакой кошки не видел. И не только моему, но и твоему воробью бояться нечего.
И оба весело расхохотались. Седельников стал выпрашивать у Андрея блокнот, чтобы показать его Ирине. Передал, в который раз, ее настоятельное приглашение зайти вечерком, поболтать, послушать новые пластинки, которые им только что прислали с золотых приисков.
- Это же редкость, - убеждал Седельников. - В Светлогорске мало у кого имеются такие пластинки. Их завозят только на прииски, на боны продают. А у Ирины слабость к легкой музыке. И меня она к ней приучила. После трудного дня хорошо отдохнуть. Иринины подружки соберутся. Чудненько! Смех, беготня как на школьной перемене. Наследниц своих уложим спать. Чаю попьем. Потанцуем...
Андрей, как и всегда, решительно отказался. Потом, потом зайдет когда-нибудь. Непременно. Обязательно зайдет. А сам знал: нет и не будет ему пути в дом Седельникова. Не будет как раз потому, что там, по-видимому, постоянно толкутся еще и подружки Ирины, озорные, смешливые. Вот уж кто совсем, совсем не нужен ему!
- А ты запиши, - настаивал Седельников, - все-таки запиши для памяти: семнадцатого в двенадцать для комсомольского актива состоится лекция "О природе героического". Лектор из ЦК комсомола. Я уже слушал ее. Умница и говорит прекрасно - не знаю, с кем сравнить. Цицерон, что ли? Или по меньшей мере Ирина моя. Приходи. А вечером, часиков в восемь-девять, у нас, вместе с ней, все свои, соберемся.
Не вступая в спор, Андрей вытащил из кармана книжку - щедрый подарок Жени - и записал все, что продиктовал Седельников. Записал только с тем, чтобы именно в этот день никак не попасться ему на глаза, а интересную лекцию "Цицерона" все же послушать.
Краем глаза он заметил, что Седельников с чисто детским любопытством, а может быть, и с завистью разглядывает книжку, но почему-то спросить не решается, откуда взялась такая редкостная вещица у демобилизованного красноармейца. И Андрей, отнюдь не стремясь подразнить Седельникова, продлил, насколько это было возможно, личное свое удовольствие. Медленно-медленно перелистывая налощенные страницы, отыскал место для записи и сделал ее нарочито неторопливо. А захлопнув книжку, подержал ее на весу и только тогда все так же не спеша опустил в карман.
- Не от невесты подарок? - вырвалось у Седельникова.
- Нет, - глухо ответил Андрей.
И тут же в его памяти возник длинный госпитальный коридор, испуганно-печальное лицо Жени, с укором сказанные ею прощальные слова, порывисто всплеснувшиеся руки, теплом и болью упавшие ему на плечи, аптечный запах полураспахнутого белого халата и обжигающий вкус ее слез.
- Нет, - подтвердил Андрей.
Заглянула Кира - знак, что двадцать минут уже истекли, - и Андрей с облегчением встал. Ему очень хотелось побыть совсем одному.
И потом, спустя много дней, он вечерами уходил к реке, садился на камень и вглядывался в переменчивые струйки воды, тихо играющие возле его ног.
Снова и снова он вспоминал свой последний день в госпитале. Путался в противоречиях.
По логике, нравственно оправдывающей Женю, получалось, что в день расставания она открылась ему в своей любви у той предельно высокой границы, за которой уже непоправимо падает девичье достоинство, женская честь - так, как это прежде представлялось и самому Андрею. Все: и ее слова, и слезы, и быстрый отчаянный поцелуй, и дорогой подарок, за которым она - теперь и это ясно, - рискуя опоздать, ездила в тот день куда-то далеко, - все подтверждало искренность ее чувства. Но...
И начинались жестокие "но"! Почему все это открылось лишь у последнего порога? Он раньше не замечал этого. Или она раньше не смела? Улыбки, улыбки, ласковое прикосновение рук во время перевязок. Но так улыбались ему и другие сестры. И так улыбалась Женя другим. А все-таки выбрала только его? Но Владимир Дубко не похвалялся же своими любовными приключениями с другими медсестрами, если были у него такие с ними приключения, а о Женечке развязно болтал почти каждый вечер. Конечно, он анекдотчик завзятый, и, может быть, Женя попросту, как яркий персонаж, чем-то удобно и выгодно для рассказчика вписывалась в его нелепые выдумки. Но и сам Андрей не раз их видел вместе. Не так, совсем не так, как хвастал Дубко! Но...
Но во имя чего и по какому праву, по какой надобности он ведет это для Жени оскорбительное следствие? Женя прекрасный человек, и за малейшую попытку унизить ее он совестью своей обязан наказать любого. И себя первого.
Нет, Женечку он в обиду не даст!
А ведь уже обидел. И тяжело. За что обидел? За ее любовь. Но ведь любви-то не было.
И тут же в душе благодарил порыв тугого ветра, который не позволил выкинуть ее подарок в окно вагона. Книжка теперь была ему нужна. Однако совсем не для того, чтобы делать в ней повседневные записи. Нужна как сладостно-щемящее воспоминание о чем-то светлом без имени и без примет, возникшем счастливо и неожиданно и ускользнувшем золотой жар-птицей.
Свободные странички в книжке все убавлялись, словно шагреневая кожа в знаменитом романе Бальзака, но Андрей уже знал, внушал себе подсознательно, что самый последний листок он никогда не заполнит и, значит, всегда будет носить эту записную книжку с собой, медленно вынимать ее из кармана, поглаживать мягкий переплет и вглядываться в тонкие узоры серебряной инкрустации с его инициалами, ища в них, как в заколдованном кругу, ответ на все один и тот же вопрос: зачем ему нужен ответ?
15
Он долго поднимался в гору по едва заметной тропинке. Шел нарочито спокойно, выполняя наставления врача проверить, как поведет себя сердце при такой тренировочной нагрузке. Врач посоветовал пойти вдвоем. На всякий случай. Андрей согласно кивнул головой. А пошел все же один. Если врачу хотелось проверить его сердце, то Андрею нужно было испытать самого себя. Не будет, никогда не будет он пугливо прислушиваться к своим болезням! И тренировать должен не сердце, а волю. Разумно, без жестокости, однако же неумолимо заставляя каждую клетку тела подчиняться только приказам, которые станет отдавать ей он, Андрей Путинцев. Возможность этого бесполезно доказывать врачам. Любому человеку известно - нельзя с ног на голову поставить основные законы природы.
А нарушать их можно. Потому что для него это все-таки лучший выбор.
Чем это кончится? Не большим, чем вообще кончается все.
Андрей остановился, взобравшись довольно высоко. Отсюда хорошо был виден город, лежащий, как и все большие города, под пологом синего дыма. Светлогорск простирался вдоль Аренги, особенно по ее правому берегу, на много километров, и дальние его окраины совсем терялись в дрожащем знойном мареве. Река, такая быстрая и переменчивая, отсюда, с высоты, казалась скованной льдом. Все было плоско, немо и неподвижно там, внизу и вдалеке.
А вокруг Андрея целыми ватагами сновали бестелесные комарики, мошки, угловато порхали белокрылые бабочки и с гудом проносились толстые жадные пауты, норовя сразу же вонзить ему в плечи свое острое шило. Временами в вершинах деревьев прокатывался едва ощутимый южный ветерок, и тогда вздрагивали, крутились в разные стороны и долго не могли успокоиться круглые листья молодых осин, словно бы недовольных тем, что березки, боярки и черемухи замедленно и неохотно присоединялись к их суматошному разговору.
Была пора цветения многих трав, их высокие стебли грузно никли к земле, и там тоже шла своя непрерывная суета. Туда и сюда бегали какие-то жучки, ползали козявки, редко-редко схожие между собою, а чаще и совсем ни на что не похожие, так странно создала их природа, одной чрезмерно вытянув тонкие ножки, другую изогнув уродливым горбом, у третьей совсем выкатив малюсенькие глазки и без того на едва различимой голове, четвертую кокетливо наделив изумрудными пятнами на спинке и на боках, пятую сделан почти совершенно прозрачной. Муравьи издалека уверенно волокли к своим остро пахнущим домам-курганам сухие былки прошлогодней травы, обломки тонких полусгнивших веток ольховника, выбеленную дождями, опавшую сосновую хвою. Дикие пчелы, осы, шмели прилежно обыскивали каждый цветок, унося с собой хотя бы самую малость золотистой пыльцы, капельку медвяного нектара.
Все, все вблизи Андрея было в бесконечном, каждому из живых существ нужном, целесообразном движении. Так он отметил это для себя. Жизнь движение. И если движение прекращается...
Он остановился не потому, что добрался до места. И не потому, что устал. Ноги свободно несли его. Просто он почувствовал интуитивно, что наступил предел. Сделай он еще десятка полтора шагов вверх, и никакое усилие воли, никакой приказ уже не заставит сердце войти в нормальный ритм. Если сию же секунду не остановится он сам, остановится его сердце.
Андрей медленно опустился на невысокий холмик, подминая царственно покачивающиеся на ветру сиренево-пестрые саранки. Неведомо с чего накатившиеся слезы застлали все перед ним радужной пеленой. И трудно было поднять странно потяжелевшие руки, чтобы смахнуть слезы. Андрей зажмурился, превозмогая острую боль под лопаткой и словно бы с вызовом спрашивая кого-то, молча стоящего у него за спиной: "Ну а что же дальше?"