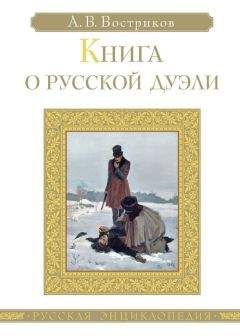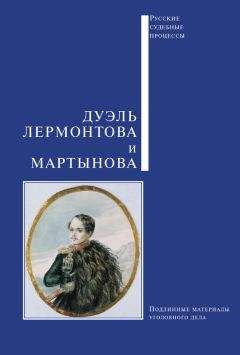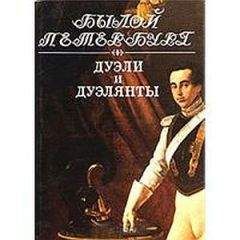Александр Востриков - Книга о русской дуэли
Мы уже говорили о постоянных насмешках офицеров над штатскими, о конкуренции между родами войск и полками. Полковая же честь значила для офицера очень много, и часто едва уловимая насмешка над формой плюмажа или цветом мундира, упоминание о неудаче в том или ином бою требовали от офицера решительных действий. Любому офицеру было легче умереть, чем услышать, например, что «между павлоградскими офицерами воры», как говорил один персонаж «Войны и мира».
Защищать честь полка было почетно. Известна легенда о том, как Александр I заставил своего брата Константина извиняться перед кавалергардами за то, что тот незаслуженно резко о них отозвался. Константин выехал перед строем полка и насмешливо изъявил готовность предоставить сатисфакцию любому желающему, явно рассчитывая на смущение соперников. Однако из строя выехал известный своим бретерским поведением М. С. Лунин: «Ваше Высочество, честь так велика, что одного я только опасаюсь: никто из товарищей не согласится ее уступить мне». Константин сказал (по одной из версий), что Лунин для этого слишком молод, и дуэль, конечно же, не состоялась, но кавалергарды остались довольны тем, что не ударили лицом в грязь перед цесаревичем {166, стб. 1035}.
Иногда сам командир считал себя обязанным встать на защиту чести своего полка, особенно если он полагал, что его подчиненный с этим не справился. Так, командир 33-го егерского полка подполковник С. Н. Старое решил, что А. С. Пушкин нанес обиду его подчиненному. Дело было в Кишиневе в 1822 году; один из офицеров-егерей во время вечера заказал музыкантам кадриль, а Пушкин потребовал мазурку, и оркестранты исполнили его желание. Поскольку офицер смолчал, то «пятно» легло на честь всего полка — и командир потребовал удовлетворения. Пушкин серьезно принял вызов, однако дуэль не закончилась: после взаимных промахов поединок сначала был отложен из-за усилившейся пурги, а потом секунданты преуспели в примирении соперников, тем более что оба они своим серьезным отношением к делу уже продемонстрировали взаимное уважение {139, т. 1, с. 267–271, 313–323}.
Не менее строго защищалась и честь семейная. Неуважение к семье, родовому клану, любому его члену расценивалось как личное оскорбление. Особенно остро, естественно, воспринималась обида, нанесенная родственнику, который сам не мог потребовать удовлетворения, — покойному предку, старику, женщине.
Честь незамужней женщины защищалась ее братьями, отцом или — довольно редко — женихом. Впрочем, для девушки на выданье намного существеннее было не допустить какой-либо обиды, «истории» — и поэтому такие дуэли случались нечасто. Например, дуэль Чернова с Новосильцевым, о которой говорилось выше, состоялась, в первую очередь, потому, что обида была публичной и репутация девушки уже пострадала. Если бы легкомыслие Новосильцева не стало известным всему обществу, если бы его мать не позволила себе публично пренебрежительно высказываться о матримониальных прожектах сына, вероятно, дуэль не состоялась бы или, по крайней мере, имя девушки не было бы упомянуто.
Девушку до замужества не выпускали в свет без сопровождения папеньки, маменьки, тетушек, дядюшек, т. е. людей пожилых и солидных, которые сами на дуэлях не дрались и до такого обострения ситуацию не доводили.
Гораздо чаще возникали дуэли за честь жены, так как любые отношения мужчины с замужней женщиной, выходившие за рамки «дозволенных» (т. е. официально-светских или родственных), потенциально представляли угрозу для ее чести и чести мужа. В зависимости от характера мужа и атмосферы в обществе, к которому эта семья принадлежала, поводом для дуэли могло быть все что угодно в диапазоне от неловко сказанной фразы или легкого флирта до попыток увоза.
Оскорблением мог считаться любой намек, даже «намек на намек». Известный беллетрист граф В. А. Соллогуб в своих воспоминаниях рассказал о случае, происшедшем в октябре 1835 года: «Накануне моего отъезда я был на вечере вместе с Нат<альей> Ник<олаевной> Пушкиной, которая шутила над моей романтической страстью и ее предметом. Я ей хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем. Затем разговор коснулся Ленского <…>. Все это было до крайности невинно и без всякой задней мысли. Но присутствующие дамы соорудили из этого простого разговора целую сплетню: что я будто оттого говорил про Ленского, что он будто нравится Наталье Николаевне (чего никогда не было) и что она забывает о том, что она еще недавно замужем. Наталья Николаевна, должно быть, сама рассказала Пушкину про такое странное истолкование моих слов, так как она вообще ничего от мужа не скрывала, хотя и знала его пламенную, необузданную природу» {154, с. 555–556}. Пушкин послал Соллогубу вызов, и только обстоятельства и активность секундантов предотвратили дуэль.
Сама возможность возникновения слухов о поведении замужней женщины, выходящем за рамки приличий, была оскорбительным вмешательством в личную жизнь. Как говорил герой «Аптекарши» В. А. Соллогуба: «Я так уверен в своей жене, что не оскорблю ее подозрением; однако в маленьком городке злоумышленный слух может иметь самые неприятные последствия, и это-то я обязан отвратить».
Разговоры в обществе, сплетни, злые языки были опаснее для чести женщины, чем реальные ухаживания. Происходило перераспределение: злоязычный сплетник мог заставить двух мужчин «оправдываться» на дуэли, оставшись при этом в стороне. Сплетня именно в силу своей анонимности часто оставалась безнаказанной.
При мезальянсе вероятность интриг и сплетен, а значит и дуэлей, возрастала. Актриса Е. В. Сорокина так объяснила М. С. Щепкину, почему она хотела отказать офицеру, предложившему ей руку и сердце: «Сделавшись его женой, я каждую минуту должна страшиться за него и за себя. На свете так много злых языков! Кто-нибудь язвительно посмеется надо мной, и, при его любви ко мне и пылкости в характере, он вздумает защищать меня; из этого может выйти ссора, которая, пожалуй, кончится дуэлью и даже его смертью, и я буду тому причиной» {178, т. 1, с. 123}.
Опасность огласки могла заставить мужа воздержаться от дуэли с любовником жены. Впрочем, отказ от дуэли в подобной ситуации мог иметь и другую причину. Реальность утраты — а не оскорбления — вступала в противоречие с условностью дуэльного ритуала. Муж часто желал мстить, карать виновного в первую очередь, а уже во вторую — восстанавливать свою честь. Соперник казался недостойным благородного удовлетворения, утрата — невосполнимой. Художественная литература дает нам возможные варианты разрешения такой ситуации — от избиения и даже убийства любовника на месте до изощренной мести Арбенина в «Маскараде».
Если же дуэль между мужем и любовником все же происходила, то чаще всего для вызова выбирался какой-нибудь формальный повод, не имеющий отношения к реальным причинам. Вспомним ссору Пьера Безухова с Долоховым в «Войне и мире»: Пьер обдумывает возможность и необходимость дуэли с Долоховым, сдерживается, когда тот произносит явно провокационный тост — «За здоровье красивых женщин, Петруша, и их любовников». Пьер срывается только тогда, когда Долохов выхватывает у него из рук листок. Формальный повод для ссоры нейтрален, имя Элен не упомянуто. Конечно же, многие знают настоящую причину, но публичный скандал, которого добивался Долохов, не состоялся. Мы не склонны считать поведение Пьера полностью сознательным, но стремление оградить личную жизнь от посторонних глаз было для дворянина таким же естественным и «врожденным», как готовность с оружием в руках отстаивать свою честь.
Обостренное чувство чести заставляло дворянина защищать любого обиженного в его присутствии человека и пресекать недостойное поведение оскорбителя. Чем бесправнее и беззащитнее обиженный, чем более «посторонним», незаинтересованным является защитник, тем благороднее защита. Как говорил полковник Мечин в «Вечере на бивуаке» А. А. Бестужева-Марлинского: «Кто осмеливается обидеть даму, тот возлагает на ее кавалера обязанность мстить за нее, хотя бы она вовсе не была ему знакома». Оскорбление, нанесенное даме в присутствии кавалера, однозначно требовало от него действий. Печорин, спасающий Мери от пьяного господина, пожелавшего ее «ангажировать pour mazure», не совершает ничего героического.
Особым проявлением благородства была защита стоящих ниже на социальной лестнице. Это означало, в первую очередь, признание за ними — за актрисой или за солдатом — права на личное достоинство. Впрочем, граница различия — в ком можно признать личность, а в ком нельзя — была подвижной. Так, для декабриста М. И. Муравьева-Апостола солдат — это в первую очередь человек: «На Васильковской площади <…> я застал учебную команду Черниговского пехотного полка. Инструкторы, унтер-офицеры, держали в руках палки, концы которых измочалились от побоев. Я тогда еще находился на службе, приказал призвать к себе офицера, заведующего учебной командой. Ко мне явился Кузьмин. Напомнив ему о статье рекрутского устава, по которой запрещается при учении бить рекрут, я присовокупил: „Стыдитесь, г. офицер, доставлять польским панам потешное зрелище, показывать им, как умеют обращаться с их победителями“. Затем я приказал бросить палки и уехал. Возвратившись к брату, я ему рассказал свою встречу с Кузьминым, от которого ожидал вызова. Брат предложил мне быть моим секундантом; требования удовлетворения не последовало. <…> В 1824 г<оду>[28] я опять приехал навестить брата и застал у него Кузьмина, который бросился ко мне в объятия, благодаря меня за то, что я его образумил, выставивши перед ним всю гнусность телесного наказания. Брат мне рассказал, что Кузьмина нельзя узнать, что он вступил в солдатскую артель своей роты и что живет с нею, как в родной семье» {120, с. 196}. Очевидно, что Кузьмин не подлец (он был членом Южного общества декабристов и покончил с собой после разгрома восставшего Черниговского полка), просто он еще не видит в солдате человека. Любопытно отметить, что и Муравьев признает за солдатом право на достоинство и защиту, но не право на честь, не право самому себя защищать.