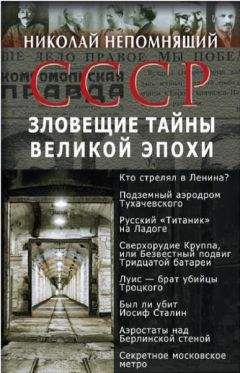Глеб Морев - Диссиденты
Юра Айхенвальд потом создал поэму «Листопад в Калуге», где все это в какой-то мере отражено, в том числе и наши все портреты. И Сергея Ковалева, помню, я первый раз там увидела. И Револьт, когда его проводили мимо нас, успел мне пожать руку и крикнул: «Айхенвальда позови!» – «Зачем?» – «По поводу Литвинова – Богораз». А уже до этого было обращение Литвинова – Богораз, и Айхенвальдов потом за эти подписи выгоняли с работы, нас всех выгоняли за подписантство, потом их все-таки восстановили, случилось такое чудо. Потому что Вава, его жена, быстренько все это записала и тут же запустили в самиздат, и в книге [Айхенвальда «По грани острой» (Мюнхен, 1972)] это хорошо описано, «Как нас увольняли» называется. И Револьт понял так, что раз они подписывали письмо Литвинова – Богораз и их все-таки восстановили, получается, что ему нельзя ставить в обвинение это письмо. А ему ставили в обвинение текст этого письма тоже, распространение. Идея была бл*дская, простите, напоминающая: а почему этому ничего не было, а его за это… То есть он был не всегда этичен, у Револьта Пименова с этикой было так себе, поймите тонкости этого дела. Айхенвальды сказали, что не ехать нельзя, раз Револьт зовет, а им совершенно не хотелось ехать, особенно Юре. Юра умирал от страха.
И дальше на этом суде была такая история, что Револьт умудрился через конвой передавать как-то записки, а Виля, его жена, ее тоже пускали в суд… или чуть ли не ей он как-то сунул… Короче говоря, мы стоим в коридоре, жена Пименова – а она была нервная такая женщина – выходит и говорит: «Ах, какой ужас! Там пропали какие-то документы, я боюсь, что у Револьта будут неприятности, ах, папка…» Какой-то странный душок актерства был в ней, я ее знала не такой раньше, то есть она явно переигрывала. Я сразу поняла, что тут что-то не то. И тут наши мужчины встали на ее защиту, [Юрий] Шиханович, Ковалев, мол, отстаньте от бедной женщины. Но ей объяснили, что хуже ее мужу не будет, чем то, что уже произошло. И Люська Боннэр там стояла и тоже ей это объясняла. А я ее тоже немножко встряхнула, говорю: «Как тебе не стыдно, держи себя в руках!» А она мне говорит: «Дура, я притворяюсь». Потом еще пропустили нашего, пошел Ковалев. Возвращается и говорит: «Надо пойти поискать Андрея Дмитриевича. Они там затеяли какую-то липу, я боюсь, что кончится все обысками». А мы там все с портфелями, у кого что там. А суд уже кончился, это было уже после объявления приговора, но еще их не вывели. Мы хотели их дождаться, чтобы еще раз на них посмотреть, если будет возможность. А Андрей Дмитриевич вышел до этого, и Чалидзе так за него боялся, что еще ему выделил телохранителя, какой-то парень с бицепсами рядом с ними стоял, и они отдельно снимали там номер в Калуге. А мы все ездили в Калугу. Они раньше нас ушли, и мы даже не спросили, куда он идет. И Люся Боннэр с Ковалевым пошли искать Сахарова. Мы стояли там, ждали, а Ковалев нам сказал, что лучше, наверное, уйти, потому что могут быть провокации. По дороге я сказала Шихановичу: «По-моему, они там действительно что-то стащили, судя по тому, что Виля мне сказала…» И когда мы были уже в поезде, Ковалев нам сказал просто: он знал, что они нечаянно, по ошибке – хотя это, я уверена, не по ошибке было, – увели папку из суда, Андрей Сахаров по профессорской рассеянности ее унес. А на самом деле эту папку Револьт передал академику. И он потом уже уехал, позвонил и сказал: «Извините, я по рассеянности забрал у вас папку».
Александр Есенин-Вольпин. 1960-е
© Мемориал
Потом папку вернули. Но там были записки Револьта, которых в ней уже не было. Вот это первый был такой поступок Сахарова, когда мы увидели уже, что вроде как это свой парень оказался.
– А что за история с вашей поездкой в Горький? Это уже 1984 год.
– Это уже совсем другое. Сахаров же за свою жену был горой, он из-за нее голодал, а она хотела выехать в Европу. И ее один раз даже пускали, а потом еще раз надо было пустить. Был момент, когда он был арестован и в Горьком, а ее пускали [за границу]. Был момент, когда к нему даже в Горький кое-кого пускали. То есть нам, простым людям, иногда удавалось увидеть Сахарова. Вот Марья Подъяпольская, еще кто-то ездил. Но тогда было так, что он был охраняем, а она свободно могла ездить как жена. Это было до поры до времени, до 1984 года. И мы, диссиденты, ходили к ней, когда она приезжала в Москву. У нее у двери тоже стоял конвой, но мы этому конвою показывали документы, и они нас пускали внутрь. И она рассказывала, как там все происходит. Против нее велась кампания, всякие гадости писали. И мы поняли, что что-то происходит. И те, кто ходил к Сахарову, – я, Маша Подъяпольская, Борис Биргер, художник, Лена Копелева, которая, кстати, никогда ничего не боялась, жена Славы Грабаря, потом Руфь Григорьевна еще была здесь, мать [Елены Боннэр], – ну вот нас было несколько человек, которые следили все время за тем, что происходит, уже по-родственному так. Вот тогда мы поняли, что с ней тоже что-то случилось, может быть, даже посадили ее вместе с ним. И я, недолго думая, решила, что я поеду. Я знаю, что, если надо, я могу пройти сквозь стену, и решила ехать. Я понимала, что если и Люську там задержали, все намного хуже, но я верила в себя. А у меня был уже маленький ребенок, я была замужем за Сережей, и этот бедный Сережа не решился мне возражать. А моей матери, которая начала кричать сразу, я тоже сказала, что еду, но без подробностей. Ко мне пришла тогда Машка и нарисовала мне схему, как пройти, потому что я в Горький ехала впервые. Я знала, что у меня получится, но какой ценой…
Маша мне нарисовала, как доехать, и говорит: «Они там выходят на балкон, и ты сможешь их увидеть, может быть, успеешь даже что-то сказать». Я сказала еще Юре Айхенвальду, и он был в таком ужасе: «Я так боюсь за тебя! Они сейчас такие злые…» В общем, он потом и общаться со мной боялся, не мог это все пережить. И я купила билет на поезд и поехала.
Я вышла, и я все равно считаю, что везучая, потому что не всегда просто было их увидеть, и мы не знали точно, что с Люсей. Я пошла по этому плану Марьи Гавриловны, вижу этот балкон и вижу издали уже, что на балконе стоит Люся, она очень представительная дама была, очень заметная внешне, вроде как цветочки сажает на балконе. Это был второй этаж, по-моему.
– Первый.
– А около Люси какой-то провинциал, как мне показалось, топчется. И вижу – кто-то топчется возле балкона, разговаривает, а она на балконе. Я потом уже поняла, что это академик, когда прибавила шагу. А я еще для виду купила цветы для них. И они мне успели сказать все, что надо было в этой ситуации сказать. Я, значит, подхожу и говорю: «Люся, что с тобой?» Она говорит: «Мне предъявлена статья 190-я». А академик сказал мне, глядя прямо в глаза (и я ему верила даже больше, чем ей): «Я буду голодать, пока ее не отпустят». Главное, что они все это сказали. И Люся мне еще сказала: «Передай Машке и Ленке, у них ключи, чтобы они мои цветы поливали, еще что-то, чтобы взяли у меня брюки в шкафу…» Она начала тратить время именно на это. Я говорю: «Люсенька, я постараюсь. Но, по-моему, уже никого не пускают в твою квартиру». – «Как, мои цветы никто не поливает?» Она очаровательная женщина, ничего не скажешь! А Сахаров сказал: «Держись от нас подальше» – когда я уже подошла к ним на глазах у милиции. И она мне говорит: «Ну вот, сейчас уже идут тебя арестовывать…» Я говорю: «Хорошо». Подходит мильтон и даже так с участием говорит: «Пройдемте». А я даже не думала сопротивляться, говорю: «Хорошо, пройдемте». У них там было здание типа опорного пункта, я пошла туда и там долго сидела. А потом пришел специальный уполномоченный, который за ними наблюдал, фамилия у него была Снежневский, и он начал меня спрашивать, а я и говорю: «Я просто в гости приехала». Он: «А где вы работаете?» – что-то еще стал спрашивать. Я в этот момент была уволена, давала уроки на дому, и я говорю: «Я не работаю. У меня инвалидность, 29 рублей получаю». Он говорит: «Хорошо живете на 29 рублей – ездите, путешествуете… Сейчас сделаем вам досмотр, запишем все». И они меня посадили в КПЗ, как пьяных там сажают, проституток на сколько-то суток. Он сказал, что утром будет суд за хулиганство. И он объяснил почему: «Когда вас забирали, вы милиционеру кричали: «Уберите руки!» А я говорю: «Ничего подобного не было!» – «Вы на меня голос не повышайте. Вы нарушили, конечно. Будем вас судить, разбираться». Я сказала, что у меня ребенок вообще-то, трех лет. А он говорит: «Ничего, с соседкой побудет…» – «И что вы собираетесь мне за это дать?» – «Ну, может, 10 или 15 суток». Это он мне так неофициально сообщил. Пришла женщина, сделала мне личный досмотр, догола меня раздели, ничего у меня не нашли, естественно. Меня отвели в КПЗ. И как они мне хамили, обращались грубо! Привели меня в камеру, там параша, ведро с водой… Он думал, что я здесь заскучаю, если мне дадут 15 суток, а я думала, что отдохну как раз здесь. На другой день меня отвели в суд, я понимала, что все решено, но я сказала, что это мои хорошие знакомые, я приехала просто повидать их и все такое, в квартиру я не входила… А там было написано, что я ломилась в квартиру, даже свидетель нашелся, и кричала: «Лена, Лена!» И судья претендовал на такую культурность, он говорит: «Но вы же умный, взрослый человек, не могли не знать, на каком положении находятся ваши хорошие знакомые». Я говорю: «Ну и что? А что я, собственно, сделала? Я просто их увидела на улице». Это был их недосмотр, видимо, что я смогла подойти. Ему сказать было нечего, короче говоря, и все. А потом приходит ко мне снова Снежневский и говорит: «Вам присудили штраф – 29 рублей». Который я до сих пор не отдала (смеется).