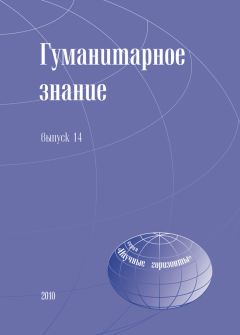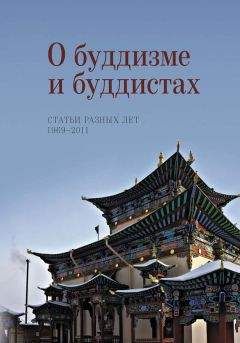Дэвид Гриффитс - Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет
Сложившуюся в результате ситуацию императрица, судорожно искавшая аналогии, была в состоянии описать лишь с помощью медицинской терминологии. Как она заметила графу де Сегюру, покидавшему временно, как он полагал, русский двор в конце 1789 года: «Вы найдете Францию больную, в лихорадке»{241}.[91] Почти год спустя она повторила свое суждение о ситуации во Франции принцу Шарлю де Линю: «Я считаю этих людей больными…» Последнему она предложила вариант более точного диагноза: «…разве не видывали ходячего гриппа?»{242} Французская нация находилась под воздействием «этой заразы», «этой болезни духа» и даже «этой эпидемии». Подобные приступы случались с Францией примерно каждые двести лет, проинформировала Екатерина своего адресата в Париже, урожденного немца барона Фридриха Мельхиора Гримма, подразумевая, вероятно, под предыдущим «приступом» время правления Генриха IV и его борьбу за власть{243}.
Болезнь положила начало «бунту». Достаточно примечательно то, что тот же термин «бунт» пятнадцатью годами раньше Екатерина употребила и для обозначения начавшегося казацкого восстания — крестьянской жакерии, возглавлявшейся самозванцем Емельяном Пугачевым. Коннотации, свойственные этому русскому термину в XVIII столетии, были вполне ясны: бунт был результатом действий темных, неразумных недовольных, не имевших, помимо определенной ностальгии по прошлому, никакой связной политической программы. «Бунтовщики» — термин, изначально примененный императрицей по отношению к французским революционерам, — были теми невежественными простаками, обычно наивными крестьянами, которые периодически восставали против своих хозяев во имя самозваных претендентов на престол, обещавших вернуть народ обратно, в никогда не существовавшее светлое прошлое{244}. Неудивительно, что в июне 1790 года Екатерина провела прямую параллель между Пугачевым и французскими повстанцами{245}. Беспринципных персонажей, поначалу взявших на себя командование событиями во Франции, она называла в русской переписке «злодеями» (во французской — scélérats) и «разбойниками» (brigands){246} — позорящими терминами, когда-то использованными ею для обозначения главарей пугачевщины и других казацких/крестьянских восстаний. В той же связи она обращалась к затертому от слишком частого употребления слову «самозванцы» (imposteurs){247}.
Ясно было, однако, что зачинщики французского «бунта» были горожанами, более того, парижанами, а не наивными крестьянами. И что бы они ни творили, они уж точно ни себя не объявляли «истинными» правителями, ни пытались посадить на трон «истинного» (самозваного) правителя. Поэтому императрице необходимо было найти другой аналог, который позволил бы как-то классифицировать их и их поведение. В течение недолгого времени она экспериментировала с понятием фанатизма — понятием, тоже имевшим свою собственную специфическую историю. Ранее Екатерина применяла его для описания деятельности энтузиастов, религиозный пыл которых был столь велик, что они уже не вписывались в определенные государством догматические рамки православной церкви. Тех, кто противился секуляризации церковных земель, староверов, последователей итальянского шарлатана Алессандро Калиостро и масонов-мартинистов Екатерина почти механически причисляла к фанатикам. Теперь она навесила тот же религиозный ярлык на зачинщиков французских беспорядков: все они были «фанатиками» (fanatiques){248}. Это обозначение довольно верно объясняло присущие им особенности поведения: сознательное отсутствие всякого уважения к установленному порядку, ревностное стремление к нереалистичным и недосягаемым целям, приверженность этим целям, доходящую до готовности принести ради них в жертву самого себя (или других), и непреклонную враждебность по отношению к тем, кто имеет свое — отличное — мнение.
Однако учитывая ставшие вскоре явными нападки французов на католическую церковь, понятие «фанатики» оказалось не вполне удовлетворительным. В числе перепробованных ею категорий были традиционные возмутители спокойствия: ремесленники в целом и «башмачники и сапожники» (savetiers et cordonniers) в частности{249}.[92] Но кто были эти сапожники? Как их звали? Среди радикально настроенных революционных главарей Екатерина не смогла найти ни одного башмачника и поэтому вскоре отказалась и от этого обозначения. Только после дополнительных мучительных раздумий она наконец пришла к хорошо известному уничижительному термину «адвокаты» (avocats) — его подсказал ей в начале 1790 года Симолин, включивший в формулу еще и «приходских священников»{250}.
Приходские священники, впрочем, ничуть императрицу не интересовали, в отличие от адвокатов. По крайней мере, это был осмысленный термин, дававший возможность составить себе представление о действующих лицах французской драмы. Во-первых, правоведы в их рядах явно были, и многие из них выказывали откровенно радикальные взгляды. По сути, Екатерина уверилась, что в Национальном собрании адвокаты составляли большинство[93]. Их присутствие вполне объясняет моральную испорченность этого органа. Как императрица потрудилась указать барону Гримму, профессия адвоката имела свою специфику: вместо того чтобы руководствоваться принципами этики или качества, представители этой профессии защищали того, кто им больше заплатит. С одинаковым рвением они отстаивали правду и неправду, справедливость и несправедливость. Неудивительно, что, когда они взялись управлять государством, им оказалось так тяжело отличить правое от неправого{251}. Далее, им не хватало опыта управления государством. Как могли адвокаты, поверенные и прочие не имевшие никакого опыта люди, при короле систематически исключавшиеся из системы управления, вдруг ни с того ни с сего начать благоразумно править государством?{252} Чему же удивляться, если они проводят законы, продиктованные сиюминутными нуждами, без малейшей восприимчивости к тысячелетним политическим институтам Франции, ее социальной структуре или традиции? Чего еще приходилось ожидать от людей, не привыкших управлять государством? Людей, не почитающих прошлого, потому что у них самих нет прошлого? Людей, сделавших карьеру на стирании различий между добром и злом?
В своем знаменитом исследовании американской демократии Алексис де Токвиль определил профессию юриста как наиболее подходящую охранителю преемственности и порядка: иными словами, как зародыш аристократии, нацеленной на сохранение всего хорошего, что есть в нынешнем положении вещей (status quo). Адвокатское сословие, одновременно почитающее традиции и тесно связанное с народом, может оказаться самым подходящим гарантом стабильности в юной республике. Впрочем, де Токвиль описывал Соединенные Штаты — общество, от природы не имевшее аристократии и, как тогда казалось, рисковавшее подпасть под власть масс. В зрелых обществах с «природной» аристократией, добавлял историк, адвокаты часто удалены от власти и вследствие этого испытывают политическую неудовлетворенность. В пример он приводил именно ситуацию во Франции{253}. Вторая половина его рассуждений вполне совпадала с мнением Екатерины. Юристы казались ей людьми, наиболее заинтересованными в устранении «природной» знати: она мешала им преследовать собственные, узкие цели. Во французском случае освященные историей институты пали жертвой адвокатских амбиций.
Императрица понимала, что установленная ею связь между адвокатами и постигшими Францию несчастиями имеет свои преимущества с точки зрения как психологической, так и когнитивной. Поскольку в Российской империи адвокатов не было — в русском языке даже не существовало для них исконного, славянского названия, из-за чего пришлось позаимствовать термин из французского, — Екатерина могла быть спокойна, что эти бедствия затронут лишь Францию и, может быть, ее ближайших соседей. В России такое повториться просто не могло. Таким образом, отождествление французских смутьянов с адвокатами позволило ей «обезопасить» от них себя и свою страну.
В соответствии с таким пониманием ситуации во Франции к 1790 году у императрицы выработалась привычка называть революционеров «адвокатами» в уничижительном смысле слова. В течение нескольких последующих лет Екатерина следовала этому обычаю, лишь иногда давая себе труд добавить к этому термину еще один: «прокуроры» (procureurs)[94]. Когда-то этих людей высмеивали в парижских театрах; теперь же правительство «адвокатов, прокуроров и вертопрахов» мстит за это всей нации{254}. Не этим шарлатанам и самозванцам применять учение философов к французской политике. Нация не выкарабкается из постигшего ее кризиса, предсказывала Екатерина, пока не будет высочайше постановлено, что «них)дному адвокату нет хода» в Национальное собрание{255}.