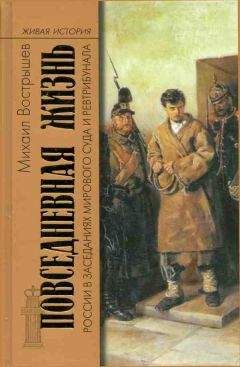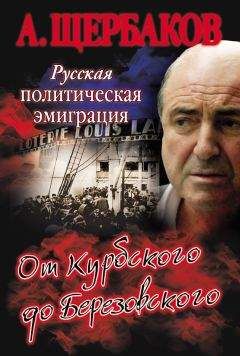Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
Этот отзыв относится к единственной книге стихов, которую Гиппиус выпустила в эмиграции, — к «Сияниям». Книжка вышла небольшая, всего сорок стихотворений, издали ее крохотным тиражом, — 200 экземпляров. Время было уж слишком неподходящее для таких стихов — 1938 год, пора канунов и крушений. Писать на злобу дня Гиппиус не умела и не стремилась. Осталась верна своим мотивам, мучась «неотступным» («От двери Отчей не уйду я. Неугасим огонь души») и напряженно думая о «неизвестном», которое все ближе («Но пусть оно будет родное» — как на земле). Стихи для книжки подбирались по разным эмигрантским журналам за пятнадцать лет. Однако по этому сборнику невозможно ощутить бег времени.
Неощутимы и какие-нибудь перемены стилистики, образности: Гиппиус была все так же узнаваема буквально по любой строке. Ходасевич, к этому времени далеко отошедший от Гиппиус и от всего ее круга, судил жестко, суховато. Манерные стихи, где стилем оказывается отсутствие стиля, из-за чего появляется некая «пряная прелесть: прелесть безвкусицы».
Однако объективность ему не изменила: не приняв книгу, Ходасевич все-таки закончил свой разбор замечанием, что Гиппиус, «скупая на изъявления чувства, быть может — даже вообще бесчувственная, зато и никогда не позволит себе нажать педаль или слишком красиво и томно высказаться о себе». Это и вправду мужские стихи, не только из-за того, что о себе автор никогда не говорит «любила», «верила», «знала» — повсюду мужской род, — но главным образом по самой их интонации: сдержанной, твердой, не допускающей бурных эмоциональных всплесков. Ни намека на лирическую исповедь, но какие жесткие счеты с миром, где
лишь злость.
Личины. Маски.
Ложь и грязь. Ложь и кровь, —
какая страстная тоска по вынужденно покинутой родине:
Не отступлю, не отступлю,
Стучу, зову Тебя без страха:
Отдай мне ту, кого люблю,
Восстанови ее из праха!
Верни ее под отчий кров,
Пускай виновна — отпусти ей!
Твой очистительный покров
Простри над грешною Россией!
Только очень немногие сумели почувствовать и понять этот тайный жар сердца, уловив, что на самом деле происходит в душе, которую в одном своем старом стихотворении Гиппиус уподобила убитому ястребу — такой же тяжелый холод, та же мертвенность вместо «полета и бытия». Обманывала всегдашняя ее надменность, отталкивала ее сосредоточенность то на мистике, то, напротив, на слишком чувственном, на «зверином законе», который навязан нам природой. Маковский, как будто достаточно близко ее знавший и первым прочитавший ее дневники, в мемуарах, где Гиппиус посвящено два десятка страниц, занят почти исключительно теми странностями, которые отличали ее отношение «к брачному, плотскому увенчанию любви», внушавшему ей болезненную брезгливость, и развивает целую теорию о ее непрестанно о себе напоминающей приверженности к «сладострастной грязи». Бунин, отдавая должное уму и таланту Гиппиус, никогда не мог подавить в себе раздражение, вызываемое вечными разговорами про постыдность любви в ее обыденной, «смешной» форме, про двуполость, которая и есть истинная, сокровенная человеческая природа, про эрос, ставший духовной эманацией. Ходасевич перестал бывать у Мережковских, окончательно удостоверившись, что для них литература — только служанка философии, с чем он не согласился бы никогда. Молодые, которых приводили на рю Колонель Бонне, терялись при виде этой увядающей женщины с неизменной сигаретой в длинном мундштуке и весь вечер лишь почтительно внимали, однако в своем кругу судили об увиденном в знаменитом салоне иронично, а то и насмешливо, даже злобно.
Кажется, только Адамович смог, отбросив скептический тон, оценить Гиппиус — как поэта, как личность — целостно и точно. Когда вышли «Сияния», он написал, что «место стихам Гиппиус в русской литературе обеспечено по той причине, что других таких стихов не было и, вероятно, не будет». Когда-то Блок назвал не имеющими аналога некоторые качества стихов Гиппиус: повсюду в них чувствующийся логический ум и всевластный дух сомнения, соединяющийся с неутолимой жаждой духовных озарений и взлетов. Адамович тоже считал, что это поэзия «ручной выделки» — уникальная по своим определяющим чертам. Вот они: отталкивание от мечты вместо традиционного влечения к ней, насмешливость поэта по отношению к самому себе, постоянный терпкий привкус печальной иронии. «Стихи как будто оттого и извиваются в судорогах, что похожи на личинки бабочек, которым полет обещан, — но сами они прикреплены к земле».
А через много лет после смерти Гиппиус, когда для самого Адамовича подошла пора итогов, он напечатал мемуарный очерк о Гиппиус, предприняв попытку законченного портрета. Как раз ему и следовало взять на себя этот труд, ведь полтора десятка лет, вплоть до войны, Адамович не только непременно участвовал в «Зеленой лампе» и являлся на каждое воскресное чаепитие, но и приходил к Мережковским в будни, по вечерам, и «ни на минуту не бывало скучно» — особенно если они с Зинаидой Николаевной оставались вдвоем, а Дмитрий Сергеевич допоздна сидел над рукописью у себя в кабинете. С ним Адамович ощущал себя как-то стесненно, «не чувствовал его как человека». С Гиппиус было намного проще, и главным образом из-за того, что Адамович угадал в ней самое главное: «Между нею самой и тем, что она говорила и писала, между нею самой и ее нарочитым литературным обликом было резкое внутреннее несоответствие. Она хотела казаться тем, чем в действительности не была».
Адамович твердо считал, что тут преобладала игра, которой в годы поэтической молодости Гиппиус определялся стиль жизни и мышления окружавшей ее среды, где то и дело затевались игры «в религию — или с религией», и наблюдался явный переизбыток «всякого рода торопливых, обманчиво-смелых, мнимо-творческих претензий». Гиппиус так и осталась личностью той эпохи, свыклась с этой игрой, и «на ней построила свою репутацию человека, который видит и догадывается о том, что для обыкновенных смертных недоступно». Однако напрасно ее считали злой, черствой. Как раз этого в ней не было, и ее сильный ум намного яснее проявлял себя «в смутных догадках, чем в отчетливых, отвлеченных построениях, в тех рассудочных теоремах, по образцу которых написаны многие ее статьи». Сухая печаль — без слезливости, без жалостливости — вот что составляло ее существо, если отбросить притворство и позу, высокомерие и сухость, сделавшиеся второй натурой.
Есть стихи, которые говорят о написавшей их гораздо правдивее, чем все заносчивые выпады и мистические прозрения, запомнившиеся другим мемуаристам. Эти стихи приведены у Адамовича:
Преодолеть без утешенья,
Все пережить и все принять,
И в сердце даже на забвенье
Надежды тайной не питать,
Но быть, как этот купол синий,
Как он, высокий и простой,
Склоняться любящей пустыней
Над нераскаянной землей.
Вот эта тоска и эта «жажда творческой правды, лично от нее ускользнувшей», писал Адамович, останутся, когда только для педантичных историков русской словесности сохранят интерес доктрины обновленного христианства, Третьего Завета, жизненного воплощения Троицы — все то, чем Гиппиус была поглощена столько лет. Останется все «душевно-встревоженное, остро-проницательное, непогрешимо-чуткое» — этим она была одарена, как мало кто другой в ее поэтическом поколении. И останутся несколько строк, которые слабеющей рукой за несколько недель до смерти Гиппиус написала на обложке одной антологии зарубежной русской поэзии:
По лестнице… Ступени все воздушней
Бегут наверх иль вниз — не всё ль равно!
И с каждым шагом сердце равнодушней:
И всё, что было, — было так давно…
По замыслу Мережковских «Зеленая лампа» должна была стать чем-то наподобие инкубатора идей, или своего рода тайным обществом единомышленников, у которых одни и те же духовные интересы, одна и та же тревога и боль. Здесь предстояло сообща искать ответы на самые жгучие вопросы времени и, найдя, нести свет обретенной истины эмигрантским массам. Дмитрий Сергеевич в своих замыслах шел дальше: истина будет востребована не только эмиграцией, не только Россией, она будет нужна всему человечеству.
Об этом он с пафосом говорил, выступая в прениях на первом заседании 5 февраля 1927 года. Его речь была посвящена антиномии свободы и России, «духа» и «плоти». Оказалось, что эмигрантская свобода — это «пустота, призрачность, бескровность, бесплотность», а российская «плоть» — синоним рабства. Приходится выбирать, то есть чем-то с неизбежностью жертвовать. И жить лишь надеждой, что когда-нибудь «Свобода и Россия будут одно».