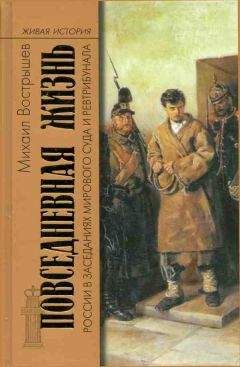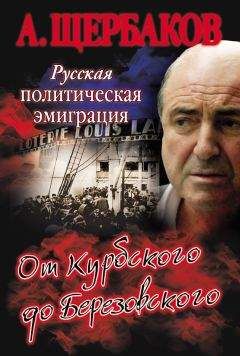Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
Книга о Мережковском, начатая 3 июня 1943-го, через полтора года после его смерти, стала последним, что было написано Гиппиус. Писать книгу Гиппиус было очень трудно, потому что, говоря о нем, приходилось говорить и о себе — две эти жизни слиты поистине нераздельно. Общими были направление мысли, духовные запросы, литературные приоритеты, политические взгляды, гражданская позиция. Одинаковым — или очень похожим — был тип личности, воплотившийся в обоих.
Такие люди трудны для окружающих. Их отличительное свойство — преданность идеям, которые кажутся фантастическими, искусственными, просто ложными натурам, чуждым отвлеченных интересов и остающимся равнодушными к «тройственному устройству мира», к ожиданию царства Завета и «охристианению земной плоти». Абсолютная неспособность Мережковских к диалогу — оба только вещали, требуя от аудитории благоговейно внимать, — еще больше осложнила им поиски сочувствующих и близких.
Одиночество, постоянно возникавшие конфликтные ситуации мучили Гиппиус, несмотря на всю горделивость, отличавшую ее с юности (начинающая поэтесса в двадцать четыре года пишет в дневнике: «Без правды, прямой, как математическая черта, нельзя подойти к Свободе. Свобода от людей, от всего людского, от своих желаний, от — судьбы… Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любить ли Бога или себя»). Она оправдывается: «Не по моей воле течет во мне такая странная, такая живая кровь». Но в конечном счете всегда перевешивает сознание собственного избранничества, которое позволяет не оглядываться на чужие суждения и оценки. Единственное, о чем Гиппиус не забывала, имея дело с теми, кто придерживается более принятых, привычных понятий, это предупредить, что она другая.
«Позвольте мне быть с вами вполне откровенной, — пишет она в 1925 году М. М. Винаверу, редактору газеты „Звено“, оговаривая условия своего в ней сотрудничества, — мне казалось иногда, что свойство моих писаний и моего имени, всегда какое-то возбуждающее тех или других, кажется вам не совсем подходящим для мирного литературного органа… Я… по совести не умею отделять „красоту“ от „добра и истины“ (сходясь в этом с Вл. Соловьевым) и поэтому не могу ручаться даже за а-политичность ни одной моей статьи, вплоть до беллетристики».
Имя философа Соловьева тут помянуто, пожалуй, зря, но собственные человеческие качества Гиппиус охарактеризовала очень проницательно. Политика как таковая по-настоящему стала ее интересовать лишь после февральских событий 17-го года, и тем не менее она (как и Мережковский) вправду никогда не остается аполитичной: жизнь обоих подчинена общественной, духовной сверхзадаче, решение которой, верили они, станет великим благом для человечества. И в этом смысле она подчинена политике, хотя конкретика политической жизни Рассеянья долгое время оставляла более или менее равнодушными обоих.
Гиппиус вспоминает в книге о Мережковском, как они — по наивности — рассчитывали, вырвавшись из совдепии, «добраться до мира, чтобы ему посильно что-то сказать», и как горько было ощутить, что почти никто не хочет их выслушать. У Бурцева в «Общем деле» оба напечатали несколько статей, навеянных еще свежими воспоминаниями о красном Петрограде: о голоде, терроре, о массовом одичании, озверении и превращении толпы в того белоглазого идиота, чей зловещий образ преследовал Бунина, когда он описывал русскую деревню. Гиппиус опубликовала кое-что из своих петербургских дневников, из «черной тетради», которую она заполняла в годы революции и Гражданской войны. Там, помимо страшных картин будничности, были крайне резкие оценки интеллигентов, из трусости или по непростительному простодушию согласившихся сотрудничать с новой властью.
В последней своей книге она с горечью пишет, что тогда, «в ту далекую осень 20-го года все эмигрантское общество — старшее поколение — внешне представляло картину большой общности, как бы сплоченности против одного и того же врага», и «мы, естественно, всех эмигрантов считали честными». А заканчивает так: «Если это была наивность — как от нее без опыта избавиться?»
Опыт пришел быстро. Василевский — Не-Буква тиснул в «Последних новостях» статейку, обвиняя Мережковского, а заодно Бунина и Куприна в «сгущении красок», «преувеличении ужасов». Бунин и Куприн ответили на этот выпад резко, с негодованием, а Мережковский лишь еще упорнее принялся отстаивать свою позицию, которая требовала полного бойкота большевиков и продолжения вооруженной борьбы с ними при активной помощи Европы. Никаких смягчающих обстоятельств, никаких компромиссов и полутонов он не признавал. Когда начался голод в Поволжье и европейская общественность забила тревогу, он через газеты обратился к инициатору гуманитарной кампании немецкому драматургу Гауптману с просьбой не вступать в контакты с Москвой: «Не свергнув советской власти, ничем нельзя помочь миллионам гибнущих людей, так же как удавленному петлей ничем нельзя помочь, не вынув шею из петли».
Гиппиус писала то же самое, но подчеркивала моральную обязанность Запада не оставаться в стороне от российской трагедии. Она первой впрямую заговорила о главном уроке революции, с которой «погибла обманная мечта о „богоносце“», и со всей прямотой констатировала: «Припадок был неизбежен… За ним — такое страдание, какого не видели, может быть, и народы более грешные. Но страданье новое, ибо не тупое — а режущее. Оно не даст уснуть русскому народу. Не даст умереть во сне».
Эти мысли были неотступными, по-разному отзываясь во всем, что создано после катастрофы и поэтом Зинаидой Гиппиус, и критиком Антоном Крайним: так подписаны ее умные и злые статьи. Никто, даже враги, не мог поставить под сомнение верность Гиппиус своему кредо, объявленному в стихах 1918 года:
Если гаснет свет — я ничего не вижу.
Если человек зверь — я его ненавижу.
Если человек хуже зверя — я его убиваю.
Если кончена моя Россия — я умираю.
Мережковский вспоминал их бегство из Петрограда в самом конце 1919 года: «Дня за три до отъезда сделался мороз в 27 градусов, а мы не знали, топят ли вагоны. И невозможно было откладывать. Мглисторозовым декабрьским вечером, по вымершим улицам со снежными сугробами, на двух извозчичьих санях, нанятых за 2000 рублей, мы поехали на Царскосельский вокзал». Многие годы Гиппиус преследовали тяжелые воспоминания об этой минуте. Среди ее стихотворений эмигрантского периода есть восемь строк, которыми сказано все: эта боль, это настроение ее не оставляли все годы на чужбине. Стихи называются «Отъезд», они напечатаны в 1935-м:
До самой смерти… Кто бы мог думать?
(Санки у подъезда. Вечер. Снег.)
Никто не знал. Но как было думать,
Что это — совсем? Навсегда? Навек?
Молчи! Не надо твоей надежды!
(Улица. Вечер. Ветер. Дома.)
Но как было знать, что нет надежды?
(Вечер. Метелица. Ветер. Тьма.)
Может быть, ее поэтическое творчество в годы изгнания и пошло на убыль так резко оттого, что лишь в единичных случаях Гиппиус удавалось найти слова и образы, способные остро, пронзительно, достоверно выразить владевшее ею чувство потери, которая невосполнима. Лирическая тема, ставшая для поэзии Рассеянья главной, плохо уживалась с характером мышления той, чьи стихи Бунин называл «электрическими», а высоко их ценивший Адамович добавлял: «Выжатые, выкрученные строчки как будто потрескивают и светятся синеватыми искрами». Гиппиус всегда ценила в поэзии прежде всего интеллект, ее книги стихов касаются тех же философских и религиозных тем, которыми заполнены эссе за подписью Антон Крайний, а в еще большей степени — дневники, не предназначавшиеся для печати. Лирическое начало в этих безупречных строфах приглушено, едва ли не вытеснено совсем. Похоже, Гиппиус как раз и хотела подавить его полностью, однако не справилась с собственным дарованием, которое взбунтовалось против такого насилия. Ходасевич с проницательностью, почти ни разу ему не изменившей, подметил у нее «совершенно своеобразное внутреннее борение поэтической души с непоэтическим умом», назвав определяющими свойствами поэзии Гиппиус причудливость и прелестную хрупкость. Она поминутно грозит «распасться, рассыпаться, безнадежно сорваться» — и впрямь срывается, но ее обаяние не пропадает.
Этот отзыв относится к единственной книге стихов, которую Гиппиус выпустила в эмиграции, — к «Сияниям». Книжка вышла небольшая, всего сорок стихотворений, издали ее крохотным тиражом, — 200 экземпляров. Время было уж слишком неподходящее для таких стихов — 1938 год, пора канунов и крушений. Писать на злобу дня Гиппиус не умела и не стремилась. Осталась верна своим мотивам, мучась «неотступным» («От двери Отчей не уйду я. Неугасим огонь души») и напряженно думая о «неизвестном», которое все ближе («Но пусть оно будет родное» — как на земле). Стихи для книжки подбирались по разным эмигрантским журналам за пятнадцать лет. Однако по этому сборнику невозможно ощутить бег времени.