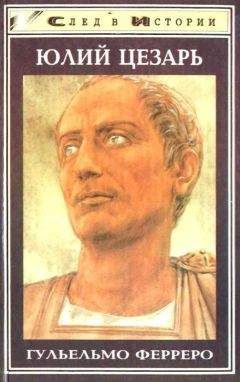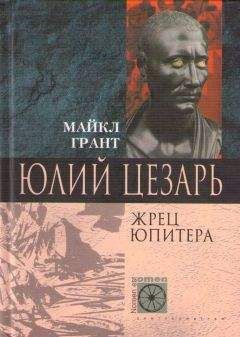Иоэль Вейнберг - Человек в культуре древнего Ближнего Востока
Однако соотношение между эмоциональным и интеллектуальным началами в трактовке древневосточным человеком психики определялось не только жанровой спецификой текстов. Нетрудно заметить также временной сдвиг: первоначальное преобладание эмоционального начала с течением времени сменяется возрастающим вниманием к человеческому интеллекту. Подтверждением тому может служить семантическая эволюция самого «интеллектуального» термина ветхозаветного словаря слова хокма. Это слово, которое первоначально обозначало знания и способности человека в повседневной жизни и занятиях, даже хитроумие, а затем этико-религиозную мудрость, спекулятивную мысль, выражало убежденность, что «знание есть сила» [165, с. 281 и сл.], обладало особо высокой частотностью в поздних ветхозаветных сочинениях, где интеллект признавался доминантой человеческой психики: «Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум» (Пр. 4, 7). При этом важно подчеркнуть, что в отличие от коллективного, как правило, характера эмоций: радость и печаль, любовь и ненависть чаще всего проявляются в контакте с другими людьми, интеллектуальное начало замкнуто в индивиде, ему и только ему свойственно. Поэтому правомерно предположить, что интеллект явился тем, что выделяло индивида из людской общности [222, с. 315–316]. Именно мудростью выделяется и возвышается царь Соломон над людьми, ею он гордится, а Дарий I подчеркивает, что «Великий бог Ахура-Мазда…одарил Дария-царя разумом и доблестью» [118, 2, с. 37].
Тем самым мы подошли к постановке двух взаимосвязанных вопросов: первый — знаком ли древневосточному человеку феномен «человеческий характер» и второй — воспринимал ли древневосточный человек себя как личность и индивидуальность или нет?
Эти два важных вопроса были поставлены С. С. Аверинцевым [3} с. 217–220], который писал, что характер, понимаемый как «некий резко очерченный и неподвижно застывший пластичный облик, который легко без ошибки распознать среди всех других», есть открытие эллинов, а древневосточной словесности знакомы лишь «живые образы», но не «характеры». Бесспорно, к древневосточной словесности приложимы ценные наблюдения Д. С. Лихачева о древнерусской литературе XIV–XV вв., в которой «психологические состояния как бы „освобождены“ от характера… Чувства как бы живут вне людей, но зато пронизывают все их действия, смешиваются с чувствами автора» [70, с. 64–66]. В древневосточной словесности действительно нередко дается образ лености, а не характер лентяя, например, в 26-й главе книги Притчей Соломоновых: «Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего» (14–15) — или описывается состояние влюбленности, но не «характер» влюбленного, например, в древнеегипетской любовной лирике:
Любовь к тебе вошла мне в плоть и в кровь.
И с ними, как вино с водой, смешалась…
Все это верно, но… разве не являет собою пример характера тот же Гильгамеш? Высокомерный «буйный муж» и верный друг, он рыдает над телом Энкиду, отважный победитель чудовища Хумбаба и неутомимый искатель бессмертия, потеряв «траву бессмертия», он
… сидит и плачет,
По щекам его побежали слезы,
но находит утешение в том, что он укрепил город свой [120, с. 82; XI, стк. 290 и сл.]. На примере Шаула (Саула), столь мужественного и деятельного, жизнелюбивого и радушного в начале, сумрачного и подозрительного, мнительного, мстительного и апатичного в конце жизни, можно даже видеть развитие характера. Разве не характер выказывает скульптурный портрет фараона Сенусерта III, «выражающий меланхолическое напряжение, изображающий правителя как мыслящего и чувствующего человека» [140, с. 214–216]? По-видимому, все-таки правы те исследователи, которые признают, что феномен «человеческий характер» не был чужд древневосточному человеку, его словесному и изобразительному искусству [165, с. 279–280; 131, с. 161 — 168].
«„Личностью“ человек бывает — или не бывает — независимо от того, что он о себе думает, в качестве „индивидуальности“ он самоопределяется — или не самоопределяется — в своем сознании», — пишет С. С. Аверинцев [3, с. 213–214] и отмечает, что в древневосточной словесности много своеобразнейших «личностей», но нет ни одной индивидуальности. Не касаясь вопроса о допустимости столь отчетливого разграничения личности и индивидуальности, рассмотрим правомерность утверждения о наличии на древнем Ближнем Востоке личностей, которые не были индивидуальностями.
Веским аргументом в пользу тезиса об отсутствии в древневосточной модели мира индивидуальности является принципиальная анонимность древневосточной, как и любой имеющей своей основой мифологическое мышление, культуры [3, с. 213–216; 31, с. 17]. Такая анонимность проявляется не только и не столько в том, что неизвестны многие создатели произведений древневосточного словесного и изобразительного искусства, но главным образом в том, что сами создатели этих произведений не сознавали себя их творцами, не признавали себя авторами и их таковыми не признавали, даже если их авторство было известно [104, с. 133]. Этому факту существует множество доказательств. В древневосточной словесности отсутствует представление о плагиате, распространено свободное заимствование из разных текстов, соединение и слияние изначально самостоятельных текстов и пр. У многих словесных текстов древнего Ближнего Востока нет формально вычленяющего их вступления и первая фраза в них начинается союзом «и» — «И воззвал Йахве к Моше…», «И сказал Йахве Моше…». Это показывает, что подлинное начало находится за пределами данного текста, который, таким образом, есть лишь продолжение давно начатой беседы, а «в разговоре неважно, кто сказал слово… Важно другое — это слово вообще было сказано, вошло в состав разговора и зажило в нем, беспрерывно меняясь в зависимости от его перипетий» [3, с. 213].
Все это так и не совсем так, ибо на древнем Ближнем Востоке наряду с подлинной анонимностью зародилось и постепенно крепло осознание творцами произведений словесного и изобразительного искусства своего авторства. В одной из гробниц Древнего царства изображен скульптор Инкаф, завершающий статую сидящей на троне царицы, — это свидетельство столь же отчетливого осознания авторства, какое звучит в горделивом преисполненном творческого самосознания заявлении скульптора Инани (XVI в. до н. э.): «…я буду хвалим за знание мое в грядущие годы теми, которые будут следовать тому, что я совершил». В вавилонской поэме «О боге чумы Эрре» приведено имя Кабтилани-Мардука, сына Дабиба, того, кто «составил это писанье», — это новое красноречивое свидетельство зарождения авторского начала; создателем контаминации двух вариантов хеттского мифа об Иллуянке назван жрец из города Нерик Келла или Килла [189, с. 194–199].
Тот факт, что на древнем Ближнем Востоке человек начинает осознавать себя как индивидуальность, подтверждается также участившимся с течением времени употреблением личных местоимений, заметным даже в пророческих речениях. Ветхозаветные пророки, конечно, считали себя рупорами Йахве, глашатаями его слова и воли. Однако у многих заметно осознание своей значимости, своей незаурядности, проявляющееся в чисто «авторском» зачине некоторых сборников пророческих речений, например пророчеств Иеремии: «Слова Йиремйаху, сына Хилкийаху из священников… К которому было слово Йахве…» (1, 1–2), где на первое место поставлено слово самого пророка. Многие пророки отчетливо осознавали свою исключительность, которая порождала их отчужденность от сограждан, возводила вокруг них барьер непонимания. В этом причина того ощущения одиночества, что звучит в горьких словах того же Ииремйаху: «Проклят день, в который я родился!…Проклят человек, который принес весть отцу моему, и сказал: „У тебя родился сын“» (20, 14–15). Поэтому навряд ли следует считать надуманной мысль о том, что осознание своей непохожести на других, исключительности, своего одиночества и гонимости есть «самоопределение» пророка, норма пророческого поведения, вытекающая из его «промежуточного» положения в обществе [110, с. 169 и сл.; 135, с. 111 — 130].
Герои древневосточной словесности часто поставлены перед необходимостью сделать выбор: Гильгамеш должен выбирать между связанными с невероятными трудностями поисками цветка «вечной юности» и отказом от этих поисков; в 925 г. до н. э. молодой царь Рехабеам должен выбирать между советом «старцев» согласиться с требованиями северных племен об облегчении их бремени и советом «детей», т. е. юных соратников царя: «Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» (III Ц. 12, 14 и сл.) и т. д., — а ведь «главная функция личности это производить выбор действия» [98, с. 192].