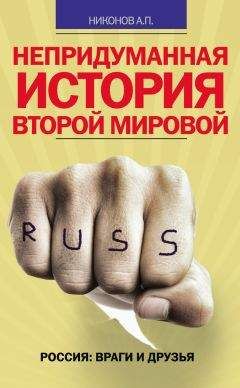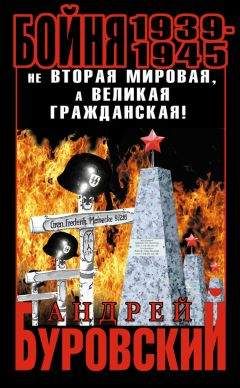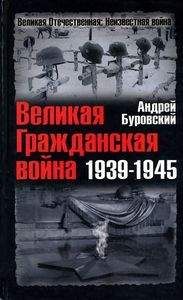От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
– Институт химической физики (ИХФ),
– Математический институт им. В. А. Стеклова и его ленинградское отделение,
– Институт геофизики,
– Институт физических проблем,
– Радиевый институт (РИАН),
– Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ),
– Физический институт ФИАН,
– Институт физической химии (ИФХ),
– Институт общей и неорганической химии (ИОНХ),
– Уральский филиал АН СССР,
– Биохимическая лаборатория АН СССР им. Академика В. И. Вернадского,
– Физико-технический институт АН СССР.
Кроме академических институтов к работам над атомным проектом были привлечены:
– Физико-химический институт им. Л. Я. Карпова наркомата химической промышленности (НКХП),
– Государственный научно-исследовательский институт № 42 НКХП,
– Всесоюзный институт авиационных материалов (ВИАМ),
– Лаборатория при наркомате электропромышленности,
– Уральский индустриальный институт,
– Центральный котлотурбинный институт им. И. И. Ползунова (ЦКТИ) наркомата тяжелого машиностроения,
– Физический институт Ленинградского университета,
– Научно-исследовательский институт № 6 наркомата боеприпасов,
– Центральный институт рентгенологии и радиологии наркомата здравоохранения.
Это еще далеко не все задействованные исследовательские центры.
И, конечно, не стоит забывать разведку. Когда в 1992 году академика Харитона спросили, правда ли, что первая советская атомная бомба – двойник первой американский, он ответил:
– Наша первая атомная бомба – копия американской. И я считал бы любое другое действие в то время недопустимым в государственном смысле. Важны были сроки: кто обладает атомным оружием, тот диктует политические условия.
Сентябрь в Кремле
Великая Отечественная война не повлекла за собой крупных изменений и реформ во внутренней политике, если не считать, что сразу после завершения войны с Японией было заявлено об отказе от чрезвычайных форм управления.
Зачем что-то существенно менять в системе управления, которая только что позволила сокрушить самого сильного врага? «Война показала, – скажет Сталин избирателям 9 февраля 1946 года, – что советский общественный строй является лучшей формой организации общества, чем любой несоветский общественный строй». Отсюда вывод о необходимости продолжить после войны оправдавшую себя политику. Историк Рудольф Пихоя отмечал, что «это была не только политическая установка, шедшая „сверху“, но и социальные представления весьма широких слоев населения, ощущавших себя победителями в этой войне. Милитаризованное сознание политического руководства сохраняло ориентиры предвоенного развития СССР».
Сразу же после окончания войны на Дальнем Востоке – 4 сентября 1945 года – Указом Президиума Верховного Совета СССР был упразднен Государственный Комитет Обороны.
Функции ГКО были переданы Совету Народных Комиссаров СССР во главе со Сталиным и, по большей части чисто формально – Президиуму Верховного Совета СССР во главе с Калининым.
Но уже 6 сентября Политбюро утвердило постановление СНК «Об образовании оперативных бюро Совета Народных Комиссаров», что сохранило сложившееся за годы войны разделение высшего органа управления на две самостоятельные структуры. Оперативное бюро ГКО было просто переименовано в Оперативное бюро СНК по вопросам работы промышленных наркоматов и железнодорожного транспорта. В его состав вошли Берия (председатель), Маленков (заместитель), Вознесенский, Микоян, Каганович, Косыгин.
Сохранили в неприкосновенности и Бюро СНК, которое по аналогии назвали Оперативным бюро СНК по вопросам работы наркоматов и ведомств обороны, военно-морского флота, сельского хозяйства, продовольствия, торговли, финансов, здравоохранения, образования и культуры в составе Молотова (председатель), Вознесенского (заместитель), Микояна, Андреева, Булганина и Шверника.
Оперативные бюро готовили на утверждение председателя Совнаркома «проекты решений по народнохозяйственному плану (квартальному и годовому), по планам материально-технического снабжения», принимали «оперативные меры по обеспечению выполнения установленных Совнаркомом планов», а также осуществляли «оперативный контроль за выполнением соответствующих решений СНК» (принимали от его имени «обязательные для соответствующих наркоматов и ведомств решения по вопросам оперативного руководства деятельностью наркоматов и ведомств».)
Примечательно, что включенные в высший эшелон власти Булганин и Косыгин на тот момент еще не являлись не только членами, но даже кандидатами в члены Политбюро.
Координацию международной деятельности обеспечивала Внешнеполитическая комиссия Политбюро – Сталин, Молотов, Берия, Микоян, Маленков и Жданов.
Прекратила свою деятельность и Ставка Верховного Главнокомандования. Непосредственное руководство Вооруженными Силами было возложено на Наркомат Вооруженных Сил, в который вошел и Военно-Морской Флот.
Принятие решений узким кругом руководителей оставалось основной моделью. Больше 13 лет – с марта 1939 по октябрь 1952 года – не созывались съезды ВКП(б). Политбюро – 10 членов и 4 кандидата в члены – считанные разы в послевоенные годы собиралось при Сталине в полном составе из-за утвердившейся практики «малых комиссий» с расплывчатыми полномочиями. Выросла роль личного Секретариата Сталина и Специального сектора Секретариата ЦК под руководством Поскребышева как инструмента надзора над Секретариатом, который стал реальным центром принятия оперативных решений и контроля над их исполнением.
Реальная власть в послевоенные месяцы оказалась в руках «пятерки» – Сталин, Молотов, Берия, Маленков, Микоян, – отношения между которыми были весьма не простыми. Причем в это время Сталин начал поговаривать о своей отставке. Не думаю, что он всерьез думал об уходе. Здесь был и элемент кокетства («уговорите меня остаться»), и желание прощупать лояльность своих подчиненных. В качестве возможного преемника и сам Сталин, и его коллеги называли Молотова.
Дед вспоминал: «Уходить Сталину на пенсию нельзя было, хотя он и собирался после войны. „Пусть Вячеслав поработает!“».
Югославский коммунист Попович рассказывал о застолье на Ближней даче, когда Сталин в ответ на здравицы, неожиданно помрачнев, произнес:
– Нет, я долго не проживу.
– Вы еще долго будете жить, Вы нужны нам! – кричали соратники.
Но Сталин покачал головой:
– Физиологические законы необратимы, – и он посмотрел на Молотова. – А останется Вячеслав Михайлович.
Молотов был популярен. По словам писателя Константина Симонова он «существовал неизменно как постоянная величина, пользовавшаяся – боюсь употребить эти громкие, слишком значительные слова, хотя они в данном случае близки к истине, – в нашей стране, в среде моего поколения, наиболее твердым и постоянным уважением и авторитетом».
Подобный полуофициальный статус преемника создавал для Молотова колоссальные проблемы. Сталин, на самом деле уходить не собиравшийся, видел в нем не только, а может и не столько преданного соратника, сколько соперника. А другие коллеги по «пятерке» и Политбюро – как главное препятствие на их собственном пути к сердцу Сталина и на властную вершину. «Все понимали, что преемник будет русским, и вообще, Молотов был очевидной фигурой, – утверждал Микоян. – Но Сталину это не нравилось, он где-то опасался Молотова: обычно держал его у себя в кабинете по многу часов, чтобы все видели как бы важность Молотова и внимание к нему Сталина. На самом же деле Сталин старался не давать ему работать самостоятельно и изолировать от других, не давать общаться с кем бы то ни было без своего присутствия… Самый большой карьерист и интриган был Берия. Он стремился к власти, но ему нужна была русская фигура в качестве номинального лидера. Жданов его не любил. А Маленков идеально подходил для такой роли; сам тщеславный, абсолютно безвольный, привыкший исполнять чужие приказы».
Молотов неизменно с огромным пиететом относился к Сталину. Он и в конце жизни – а прожил он до 1986 года – считал, что без Сталина мы бы и войну не выиграли. И, конечно, не допускал и мысли о его отставке и не претендовал на его место.