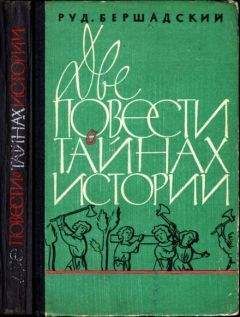Е Мурина - Ван Гог
Вместе с Тео и другими друзьями Ван Гог бывал в редакции "La Revue independente", ставшей центром, объединяющим поборников нового искусства. Его редактор, критик Феликс Фенеон, привлек к работе в журнале не только Э. Золя, П. Гюисманса, Э. де Гонкура, но и представителей символизма - поэта Малларме, автора "Манифеста символизма" Жана Мореаса, Поля Лексиса, Э. Верхарна и других.
В помещении редакции "La Revue independente" Фенеон устраивал выставки, на которых показывал главным образом работы Сёра и других дивизионистов, творчество которых он усиленно пропагандировал. Возможно, что на одной из таких выставок участвовал и Ван Гог. Правда, он так и не стал завсегдатаем этих мест. Ему был чужд дух "партийной" борьбы и интриг, в которых варились его парижские друзья. Вся эта лихорадочная жизнь, проходившая под девизом "декадентства" и искусства, создаваемого для "избранных", была не для него. Уже из Арля он в одном из писем Бернару аттестует редакцию, возглавляемую Фенеоном, как "гнездо интриганов". Бесконечные дискуссии, столкновения страстей, клокочущих в "стакане воды" и неизбежно принимающих ничтожный характер свары, приводят его в состояние глухого раздражения. У Ван Гога зреет идея другого содружества художников, во многом определившаяся как полярность тому, что он увидел и возненавидел в жизни парижской богемы, о чем будет сказано ниже.
Но как бы там ни было, в пределах "Малых Бульваров" он получил родственные импульсы и идеи, давшие ему уверенность самоопределиться по отношению ко всему увиденному в "попутчика импрессионистов".
Чтобы понять, почему Ван Гог, просидевший несколько лет в голландском захолустье, вдали не только от такого центра культурной жизни Европы, как Париж, но и от гораздо более провинциальных Гааги или Антверпена, стал сразу же "своим" среди передовых художников, оказался на уровне их проблематики и за каких-нибудь несколько месяцев занял среди них свое место, следует представить, насколько вовремя он приехал в Париж. Его приход во французскую живопись был настолько знаменателен для происходивших в ней изменений, что Джон Ревалд имел все основания начать свою книгу "Постимпрессионизм" со слов Винсента, обращенных к Тео: "Я буду в Лувре с двенадцати часов, а если хочешь, раньше" 5. "Этот приезд действительно как бы знаменовал наступление нового этапа истории французского искусства" 6, пишет в предисловии к этой книге А. Н. Изергина.
Год 1886-й был отмечен событиями в художественной жизни Парижа, значение которых впоследствии было оценено историками искусства как переломное. Прежде всего этот перелом происходит в развитии импрессионизма. В 1886 году состоялась последняя, Восьмая выставка импрессионистов, где окончательно завершился, как считают некоторые исследователи импрессионизма, "распад" этой группы художников, начавшийся в 1881 - 1883 годах 7. Здесь не было Ренуара и Моне, классиков импрессионизма, отказавшихся выставляться с представителями второго поколения - Гогеном, Синьяком и другими. Гвоздем выставки оказалась большая картина Сёра "Гранд-Жатт", привлекшая внимание не только к ее автору, но и ко всем тем художникам, которые группировались вокруг вождя дивизионизма и среди которых одним из самых последовательных оказался Писсарро.
Тулуз-Лотрек, Сёра, Синьяк, Гоген, Сезанн, Анкетен, Бернар - все они, пройдя через импрессионизм, выдвигают свою новую проблематику, во многом от него отталкивающуюся и сближающую их с другими направлениями, в частности, с символизмом. Подтверждением этого явилась еще одна выставка того же года - Салон Независимых, где наряду с Сёра, Синьяком, Гогеном был представлен Одилон Редон и впервые выступил "таможенник" Анри Руссо, великий примитивист. На глазах Ван Гога возникают клуазонизм Анкетена, синтетизм Гогена и Бернара, предвещающий зарождение нового всеевропейского явления стиля модерн. Еще когда Ван Гог будет в Париже, в академии Жюльена встретятся будущие "набиды" - Боннар, Вюйяр, Морис Дени, Серюзье.
Бурное становление различных направлений, по сути дела, вызванное реформами импрессионистов, освободивших творческие силы художников от оков академизма, объединялось в нечто единое лишь общим для всех них отрицанием "позитивистской" объективности и идеологической пассивности импрессионизма. Конечно, нельзя сказать, что импрессионисты скользили по поверхности жизни. Но несомненно, что они стремились запечатлеть скользящую мимо них жизнь. Они ее чувствовали и ощущали, как никто, и эта трепетная, живая, движущаяся и меняющаяся во времени материя была достаточно большим объектом для живописи. Но им была чужда проблематика, обращенная внутрь человека, к его социальным и духовным драмам. Они выводили здание своего искусства не из глубин человеческого бытия, а из анализа и поэзии видимого. И потому их привлекали в первую очередь "объективные" истины и зримые ценности. Чувствам они предпочитали ощущения, бывшие к тому же в то время объектом научного изучения, остроту зрения - силе прозрения, наблюдения - идеалам, систематический труд - вдохновению.
И вот теперь маятник истории качнулся в сторону этих "забытых" понятий, восстановить значение которых и стремится новое поколение художников, искусство которых выглядит, по сравнению с созерцательно-гармоничным импрессионизмом, как рецидив романтизма, если под ним понимать определенный тип мироотношения, присущий, как мы видели, Ван Гогу.
Во всяком случае, именно восприимчивость к импульсам романтизма позволяет объединять столь разных художников, как постимпрессионисты, в некую общность: Ван Гог, насквозь пропитанный максимализмом и метафизикой романтизма, с его верой в иррациональную природу цвета; Гоген, проклинавший цивилизацию и ищущий идеалы нового искусства в экзотических культурах "примитивных" народов; Сезанн, внешне самый "благополучный", живущий размеренной жизнью провинциального рантье, но настоящая шекспировская фигура, с его пламенными сомнениями и неистовыми творческими страстями. Сама его всепоглощающая идея воссоединить звенья порванной цепи между классикой и современностью, то есть "соединить Пуссена с природой", говорит о грандиозности его целей; даже Сёра, казалось бы, стремившийся довести аналитическую технику своих старших предшественников до научно-логической обусловленности объективным знанием физических теорий света, по сути дела, был один из самых яростных проповедников идеи чистой отвлеченности, противопоставляемой чувственному эмпиризму "классического" импрессионизма. Его преувеличенный рационализм, именно в силу своей преувеличенности, выдает свою романтическую подоплеку, так же как надрывный "цинизм" Тулуз-Лотрека, подчеркивающий его неприятие действительности и отчаяние в духе своеобразной романтической иронии. Для них вновь приобрели вес такие понятия, как идеалы (даже если они над ними подсмеиваются), вдохновение, поэзия, личность и даже мистика (Гоген, Бернар). Правда, после урока, преподанного этим бунтарям импрессионистами (Писсарро был их общим учителем), духовные ценности ставятся ими в связь с законами природы, с необходимостью опираться на систематизированный или хотя бы точный и лаконичный язык. Можно сказать, что импрессионисты, так блистательно и исчерпывающе воссоздавшие чувственную поверхность жизни, подготовили почву для своих преемников, оснащенных теперь новыми возможностями живописи, чтобы пойти в глубь природы и человеческого бытия.
"Импрессионисты пребывали у побегов, у низкой поросли повседневных явлений. Однако наше неспокойное сердце гонит нас вниз, глубоко вниз к первопричине" 8, - писал впоследствии Клее. И это путешествие к "первопричине" началось именно в годы, когда Ван Гог появился в Париже. Еще его любимые Гонкуры, которыми он зачитывался, стремились уловить неуловимое, невыразимое, приоткрыв впервые завесу над "подсознательным" и сверхсознательным, что было более доступно слову и звуку. Теперь он нашел поддержку своему интересу к духовной стороне жизни у новых друзей - Гогена, Бернара и в общей атмосфере, характеризующей художественную жизнь в пределах "Малых Бульваров".
В начавшемся "пересмотре" импрессионизма литература, а также музыка и новые теории искусства сыграли очень важную роль, поскольку речь шла о восстановлении прав идей и духа для искусства. Обособленность живописи в сфере собственно живописных задач дала свои плоды, и теперь, обретя вновь, в результате реформ импрессионистов, выразительную силу своего языка, она охотно идет на сближение с другими видами художественного творчества.
Прежде всего это выражается в широком сотрудничестве постимпрессионистов с поэтами, писателями и художественными критиками, так или иначе связанными с символизмом, который как раз в эти годы перерос значение чисто литературного явления и начал распространять свое влияние на искусство. Постимпрессионисты, особенно в лице Гогена и его сподвижников, к числу которых присоединяется отчасти и Ван Гог, не случайно тяготеют к символистам. Их сближала не только антибуржуазная направленность общественных позиций, хотя сам по себе факт симпатий символистов и постимпрессионистов к анархизму весьма знаменателен. Как пишет Джон Ревалд, и те и другие "надеялись, что настанет день, когда их перо и кисть будут считаться вещами не менее важными, чем молот и плуг" 9. Надо ли напоминать, как близки подобные упования Ван Гогу. Но основой этой близости было стремление усилить идеологическую активность живописи, сделать ее рупором идей. Под заявлением Г. Кана, развивавшего мысли Мореаса, изложенные в манифесте символистов, подписался бы любой из постимпрессионистов: "Основная задача нашего искусства - объективизировать субъективное (облечь Идею в конкретную форму), а не субъективизировать объективное (пропускать природу сквозь призму темперамента)" 10. Последний принцип был некогда провозглашен, как известно, Эмилем Золя, идеологом натурализма, поборником импрессионизма, и не случайно ему противопоставляют свой девиз символисты. Не случайно Гоген получает титул вождя символистов в живописи и охотно - не без оснований - его принимает. Не случайно и Ван Гог увлекается Гюисмансом, который еще в 1884 году порвал с Золя и стал восхищаться Малларме, Верхарном, Гюставом Моро и Одилоном Редоном.