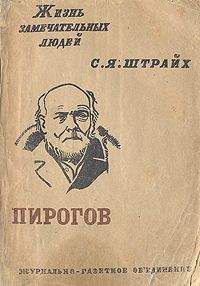Николай Пирогов - Из Дневника старого врача
- Да чем тут заменишь?
- Известно, ничем,- так ему и ответят.
- Толкуй! а не хочешь картинами или платками?
- Чем это? что ты врешь, как сивый мерин!-слышу чей-то вопрос.
- Нет, не вру; уже где-то, сказывают, так делается. Профессор по анатомии привяжет один конец платка к лопатке, а другой - к плечевой кости, да и тянет, за него; "вот,- говорит,- посмотрите: это - Deltoideus". (Общие задачи университетской науке при Голицыне ставились в форме требования, чтобы профессора медицинского факультета "принимали все возможные меры, дабы отвратить то ослепление, которому многие из знатнейших медиков подвергались от удивления превосходству органов и законов животного тела нашего, впадая в гибельный материализм". Во избежание этого профессор анатомии должен был "находить в строении человеческого тела премудрость творца, создавшего человека по образу и подобию своему". От цензуры требовалось, чтобы она рассматривала медицинские учебники в отношении нравственном: "когда науки математические и даже география несут часто на себе отпечаток неверия, могут ли не подлежать строжайшему надзору творения медицинские, в коих рассуждения о действиях души на органы телесные и о возбуждении в теле различных страстей подают обильные способы к утверждению материализма самым косвенным и тонким образом?" В связи с такой установкой изувер М. Л. Магницкий, ближайший помощник Голицына, поднял вопрос об отказе от "мерзкого и богопротивного употребления человека, созданного по образу и подобию - творца, на анатомические препараты". В высших медицинских школах стали преподавать анатомию без трупов, иллюстрируя учение о мышцах на платках. Развивая это благочестивое начинание, непосредственно подчиненные Магницкому казанские профессора "решили предать земле весь анатомический кабинет с подобающей почестью; вследствие сего,- рассказывает современник,- заказаны были гробы, в них поместили все препараты, сухие и в спирте, и после панихиды, в параде, с процессией, понесли на кладбище" (см. мою книгу о П., 1933, стр. 19).
Дружный хохот: кто-то плюнул с остервенением.
Да, нумер 10-й был такою школою для меня, уроки которой, как видно, пережили в моей памяти много других, более важных воспоминаний.
Впоследствии почуялись и в 10-м нумере веяния другого времени; послышались чаще имена Шеллинга, Гегеля, Окэна. 268 (Это было тотчас после окончания П. университета, в начале 30-х годов XIX в.-в студенческое время Герцена, Огарева, Белинского, Станкевича, их друзей. Кроме известных в литературе сообщений об этом периоде из их биографий и воспоминаний, см. еще книгу Н. Л. Брод-ского (гл. 5-я) и очерк М, Полякова.)
При ежедневном посещении университетских лекций и 10-го нумера все мое мировоззрение очень скоро изменилось; но не столько от лекций остеологии Терновского (Ал-й Гр. Терновский (1792-1852)-адъюнкт Лодера; читал лекции по анатомии и диэтетике, производил вскрытия трупов по правилам судебной медицины (за 10 лет-600 вскрытий); прославился бескорыстным лечением бедных (А. И. Полунин, К. П. Успенский).
(в первый год Лодера не слушали) и физиологии Мухина, сколько, именно, от образовательного влияния 10-го нумера. ("Университет [Московский] рос влиянием: в него вливались юные силы России из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага... развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений.- Московский университет свое дело сделал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Пирогова, могут спокойно... лежать под землей" (А. И. Герцен. Былое и думы, т. I, стр. 188 и сл., 214).
О влиянии Московского университета на развитие участников движения декабристов - у Н. П. Чулкова - Москва и декабристы (сб. "Декабристы и их время", т. II, 1932, стр. 294 и сл.).
На первых же порах, после вступления моего в университет, 10-й нумер снабдил меня костями и гербарием; кости конечностей, несколько ребер и позвонков были, по всем вероятиям, краденые из анатомического театра от скелетов, что доказывали проверченные на них дыры, а кости черепа, отличавшиеся белизною, были верно, украдены у Лодера, раздававшего их слушателям на лекциях остеологии.
Когда я привез кулек с костями домой, то мои домашние не без душевной тревоги смотрели, как я опоражнивал кулек и раскладывал драгоценный подарок 10-го нумера по ящикам пустого комода, а моя нянюшка Катерина Михайловна, случайно пришедшая в это время к нам в гости, увидев у меня человеческие кости, прослезилась почему-то,- и когда я стал ей демонстрировать, очень развязно поворачивая в руках лобную кость, бугры, венечный шов и надбровные дуги,- то она только качала говою и приговаривала: "Господи, боже мой, какой ты вышел у меня бесстрашник!"
Что касается до приобретения гербария, то оно не обошлось мне даром. Надо знать, что это был, действительно, замечательный для того времени травник, хотя Москва и могла считаться истинным отечеством травников всякого рода, только не ботанических, а ерофеечевых; гербарий же 10-го нумера был, очевидно, не соотечественный. Вероятно, его составлял какой-нибудь ученый аптекарь, немец; он собрал около 500 медицинских растений, прекрасно засушил, наклеил каждое на лист бумаги, определил по Линнею и каждый лист с растением вложил в лист пропускной бумаги. Чисто, аккуратно, красиво. Когда студент 10-го нумера, Лобачевский, показал мне в первый раз это, принадлежавшее ему сокровище, я так и ахнул от восхищения. Лобачевский предложил мне купить эту, по моим тогдашним понятиям, драгоценную вещь за 10 рублей, разумеется, ассигнациями, (Ассигнации-название бумажных денег; введены при Екатерине II в 1769 г.; в первой трети XIX в. ценились по 25 коп. серебром за бумажный рубль; таким образом, купленный П. гербарий стоил 2 р. 50 коп. сер.)
и сверх того привезти ему еще на память шелковый шнурок для часов, вязанный сестрою; Лобачевский был galant homme и где-то видел моих сестер. Я, не возражая, не торгуясь, попросил тотчас же уложить гербарий в какой-то старый лубочный ящик; старый Яков связал ящик веревкою, стащил вниз и положил в сани к извозчику.
В мечтах, наслаждаясь рассматриванием гербария, я и не заметил, как доехал до дому; тут только взяло меня раздумье: а что, как мне денег-то не дадут, что тогда? да не может быть!-Ну, а если?... Ах, боже мой, как же это так я и не подумал прежде! Ну, будь, что будет!
- Прасковья! Прасковья! Ульяна! да подите сюда, помогите вытащить ящик из саней.
Тащат. Вхожу в комнаты уже ни жив, ни мертв от волнения.
- Что это такое? - спрашивают сестры.
- Да это гербарий!
- Что такое гербарий?
- Ботаника.
- Да ведь у тебя есть уже ботаника.
- Какая?
- Да разве ты не помнишь, сколько сушил разных цветов?
- Ах, это совсем не то; это настоящий, как есть ботанический, гербарий, и все медицинские растения. Просто чудо, драгоценнейшая вещь, редкость.
- Да откуда же ты достал?
А я между тем распаковываю ящик, вынимаю пачки пропускной бумаги.
- А вот посмотрите-ка сначала, каково, а? Вот смотрите-ка:
Atropa Belladonna, нездешняя, у нас не растет. Это - красавица, яд страшный; а вот это растет и у нас, видите: Hyoscyamus niger L.; это значит Линней, по Линнею-белена. Что? Каково?
- Кто же тебе подарил?
- Вот тебе раз: подарил! прошу покорно! Да где найдешь таких благодетелей, чтобы все дарили вам? Я купил.
- Купил! а деньги где?
- Буду просить.
А о шнурке я ни гу-гу.
Начинаются переговоры и пересуды. Мать узнает и называет мою покупку самоуправством, легкомыслием, расточительностью; угрожает, что отец не даст денег. Я-в слезы, ухожу к себе, ложусь в постель и плачу навзрыд,-и так на целый вечер; нейду ни к чаю, ни к ужину; приходят сестры, уговаривают, утешают. Я угрожаю, что останусь дома и не буду ходить на лекции. Обещают, во что бы то ни стало, достать к завтрашнему дню 10 рублей. А про шнурок я все-таки ни гу-гу. Так, бла-даря ходатайству сестер, дело и уладилось. Я принес Лобачевскому на другой день рублей, а про шнурок что-то сболтнул, не помню; только Лобачевский его никогда не получал, хотя при каждом удобном случае и напоминал мне о моем обещании; а я, в досаде на свою легкомысленность, посылал Лобачевского, внутренне, ко всем чертям.
С этих пор гербарий доставлял мне долго, долго неописанное удовольствие; я перебирал его постоянно и, не зная ботаники, заучил на память наружный вид многих, особливо медицинских, растений; летом ботанические экскурсии были моим главным наслаждением, и я непременно сделался бы порядочным ботаником, если бы нашел какого-нибудь знающего руководителя; но такого не оказалось, и мой драгоценный гербарий, увеличенный мною и долго забавлявший меня, сделался потом снедью моли и мышей; однако же целых 16 лет он просуществовал, сберегаемый без меня матушкою, пока она решилась подарить его какому-то молодому студентику.
Кроме костей и гербария, я принес домой из 10-го нумера и мое новое мировоззрение, удивив и опечалив этим не мало мою благочестивую и богомольную матушку. В церковь к заутреням и даже всенощным я продолжал еще ходить, соблюдал посты и все обряды, но при каждом случае, когда заходила речь с матерью и домашними о святости внешнего богопочитания, о страшном суде, муках в будущей жизни и т. п., я сильно протестовал, глумился над повествованиями из Четьи-Минеи о дьяволе и ею проказах и пр. [...].