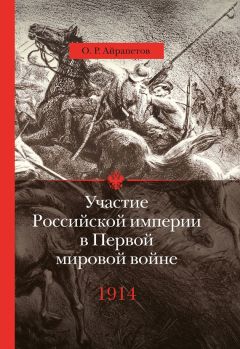Елена Вишленкова - Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»
Чтобы понять, какую роль сыграли гравюры Лепренса в отечественной самоидентификации, придется выяснить, почему российские зрители получали удовольствие от увиденного. По-видимому, его взгляд на империю соответствовал не только меркантильному желанию императрицы, но и представлениям определенного сегмента местных элит о специфике народной культуры. Исследователь русской идентичности Х. Ян выделил по крайней мере два различных понимания категории «русский характер», которые зародились во второй половине XVIII в. Одно из них увязывалось с простотой и естественностью сельской жизни. Соответственно, в крестьянском фольклоре видели ключ к пониманию «народного духа». Второе ассоциировало русский характер с пасторальной идиллией (в голландском стиле) и выражалось в порождении «фольклорного китча»[236]. Видимо, в этом случае Ян имел в виду то же, что Н. Найт называет «фольклор как развлечение». Проявления этого обнаруживаются в столь любимых знатными особами «народных» маскарадах, в устроении «русских трапез», в праздниках с а-ля крестьянскими танцами. Похоже, во времена Екатерины II российская аристократия с увлечением «играла в народ».
«В память о былых заслугах». Французская гравюра конца XVIII в.
«Нищий». Французская гравюра конца XVIII в.
Данная тенденция поддерживалась и усиливалась участием отечественных элит в театральном творчестве. По всей видимости, альбомы Лепренса служили для устроителей спектаклей своего рода иллюстрированным каталогом, помогающим организовать развлекательные мероприятия в «русском духе». В них любой просвещенный зритель мог найти подходящий костюм для перевоплощения, подобрать атрибуты для «русской пьесы», вообразить пространство народного быта. Предлагаемые художником реквизиты выглядели по-игровому привлекательно. Его гравюры «Прогулка на реку», «Женщина с коромыслом», «Продавщица пирогов», «Продавец икры» и другие являются готовыми сценическими эскизами – с костюмами, гримом, «позитурами» и ландшафтными декорациями. Даже «вульгарные» крестьянские типажи смотрятся на них «по-голландски» мило. И такое узнавание не было случайным. Дело в том, что художник действительно соединил в единую романтическую композицию российские «костюмы» и жанровые крестьянские сцены нидерландских мастеров.
Голландская плитка российского производства в Екатерининском дворце (г. Пушкин)
Роспись на крышках табакерок Императорского фарфорового завода. 1750-е гг.
Именно голландцы едва ли не первыми ввели в живопись бытовую жизнь социальных низов, показали их как «домашнего другого»[237]. Благодаря их гравюрам, книжным иллюстрациям, живописным полотнам и керамическим плиткам калеки, нищие, уродцы, воры, оборванные дети, веселые пьяницы и разгульные девицы, кормилицы и старики стали «странствующими» сюжетами в западноевропейском искусстве XVI–XVIII вв. Знакомство с ними российского читателя началось, видимо, в петровские времена. Именно тогда, благодаря амстердамской типографии Я. Тессинга в империи появились книги, отпечатанные славянским шрифтом и украшенные голландскими рисунками. Впрочем, не только из Голландии импортировались народные темы. Немцы (особенно из Швабии, Вюртенберга и Баварии), прибывшие на поселение в поволжские колонии, Северный Кавказ и города Центральной России, составляли в империи подавляющую часть экономической эмиграции. Печные изразцы с сатирическими крестьянскими сценками и подписями к ним, кувшины, чашки и тарелки с аналогичной декоративной росписью – все это было на виду у их российских соседей и, вероятно, соответствовало лубочному юмору. Очевидно, художественное заимствование способствовало также появлению в крестьянском производстве XVIII в. кукол, а также посуды и предметов мебели, расписанных фольклорными сюжетами, характерными для бытовой культуры Баварии, Швабии и Австрии[238].
В середине века пасторальные сюжеты можно было обнаружить не только в книгах и кустарных изделиях, но и в росписи фарфоровых изделий казенного завода. Некоторые экземпляры таких изделий в «жанре Ватто»[239], как называли их в России, хранятся в собрании Эрмитажа, сведения о других дошли до нас в литературных описаниях. Согласно одному из них, на разных плоскостях табакерки владелец мог увидеть следующие сценки: пляшущих крестьянина с крестьянкой; справа сидит играющий волынщик, около него молодой крестьянин. На дне изображены сидящие за столом два бородатых крестьянина, смотрящие, как молодой крестьянин обнимает крестьянку; слева на земле сидит старуха, у ног которой лежит собака. На передней стенке мужчина с торбой за спиной протягивает письмо идущей к нему навстречу крестьянке с ребенком. На задней стенке странствующий разносчик предлагает сидящей на земле старухе на выбор несколько пар очков. На левой стенке женщина с ребенком на руках разговаривает с предлагающим ей свой товар странствующим разносчиком. На правой стенке бочар наколачивает на бочку обруч, около стоит держащая кадушку женщина. На крышке внутри изображена внутренность дома, справа сидят бородатый крестьянин с кружкой в руке и женщина, держащая на коленях ребенка; за ними стоит еще крестьянин; справа в глубине за загородкой видны коровы; слева, у бочки, на которой стоит горящая свеча, сидят крестьянин и старуха; по середине, у открытой двери, сквозь которую видны двор и строения, стоит старик с костылем[240].
Кроме шкатулок и табакерок носителями «голландских сцен» были бело-голубые печные изразцы, фарфоровые пуговицы, эфесы сабель, крышки карманных часов, фарфоровые яйца и скульптурные фигурки.
Усвоение данных сюжетов привело к серьезным изменениям в отечественной визуальной культуре. Во-первых, в миниатюрных композициях крестьянин изображался как культурно «иной», увязанный с локальной культурой. Во-вторых, они убедили элитарного потребителя в том, что бытовая жизнь крестьян может быть достойной художественного увековечивания. В-третьих, посредством всех этих вещей российские покупатели приобщались к европейским визуальным конвенциям: учились читать значение поз, костюмов и жестов персонажей, а также усваивали композиционные правила сюжетных изображений.
Роспись на табакерках Мейсенского завода. Середина XVIII в.
Роспись на крышке табакерки Императорского фарфорового завода. 1750-е гг.
Во второй половине XVIII столетия интерес к фламандцам и к «жанру Ватто» проявляли не только российские кустари, но и академические художники. Тогда в Эрмитаж поступили полотна фламандских и голландских мастеров жанровой живописи, а также их французских последователей. С одной стороны, они обыгрывали темы старости, физического уродства и нищенской истощенности. С другой Адриан Ван Остаде, Питер Брейгель Старший, Давид Тенирс Младший представили российскому зрителю живые сцены пирующих или дерущихся крестьян в переполненных тавернах и лачугах. Причем в своих поздних работах Остаде «облагородил» крестьян соответствующим телосложением, хорошими манерами и поместил в интерьер чистого добротного жилья.
Роспись на крышках табакерок Императорского фарфорового завода. 1750-е гг.
Воспитанные на копировании «образцов», отечественные рисовальщики создавали «местные сцены» из западного материала и по учительским лекалам. От учителей они знали, как передать социальный статус персонажа. «Аристократические фигуры в рисунках Мартынова, – заметила Н. Гончарова, – всегда вытянуты, а торговцы и мастеровые – приземисты, нарочно огрублены»[241]. На полотнах И.А. Ерменева социально низкое положение персонажей передано через морщины, облысение, сгорбленность фигуры, понуро опущенные долу глаза. Их бедность и страдание выражены искореженными физическим трудом руками, ветхой одеждой, «социальными» атрибутами – посохом и сумой. И даже далекий сельский пейзаж, на фоне которого они установлены, рождает в зрителе ощущение грусти и беспросветности.
Вариант «фольклорной декоративности» воплотился в ярких живописных полотнах портретистов, изображавших крестьян как аристократов, одетых в стилизованные крестьянские костюмы. Так, на картине А. Вишнякова «Крестьянская пирушка» за столом сидят то ли фламандцы, то ли итальянцы в «русском платье». В их руках изящные бокалы из тонкого стекла, наполненные красным вином. Аналогично изображены русские крестьяне на полотнах М. Шибанова «Празднество свадебного договора» и «Крестьянский обед» (1774).