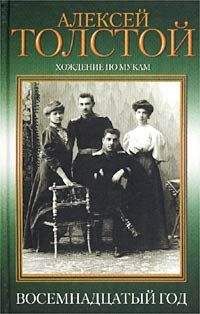Бенедикт Сарнов - Сталин и писатели Книга вторая
Сознавал ли А.Н. Толстой всю порочность этой сталинской модели «построения социализма в одной, отдельно взятой стране»?
В полной мере, может быть, и не сознавал. Но кое-что безусловно понимал, о чем свидетельствуют некоторые дошедшие до нас его высказывания:
ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРРАЗВЕДКИ КГБ СССР «ОБ АНТИСОВЕТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЯХ СРЕДИ ПИСАТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ».
Не позднее 24 июля 1943 года
Толстой А.Н., писатель… «В близком будущем придется допустить частную инициативу новый Нэп, без этого нельзя будет восстановить и оживить хозяйство и товарооборот».
(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 497)В это же время (22 июля 1943 года) в его записной книжке появляется такая запись:
Что будет с Россией. Десять лет мы будем восстанавливать города и хозяйства. После мира будет нэп, ничем не похожий на прежний нэп. Сущность этого нэпа будет в сохранении основы колхозного строя, в сохранении за государством всех средств производства и крупной торговли. Но будет открыта возможность личной инициативы, которая не станет в противоречие с основами нашего законодательства и строя, но будет дополнять и обогащать их. Будет длительная борьба между старыми формами бюрократического аппарата и новым государственным чиновником, выдвинутым самой жизнью. Победят последние. Народ, вернувшись с войны, ничего не будет бояться. Он будет требователен и инициативен. Расцветут ремесла и всевозможные артели, борющиеся за сбыт своей продукции… Резко повысится качество. Наш рубль станет международной валютой… Китайская стена довоенной России рухнет.
(А. Толстой. Записные книжки. В кн.: Литературное наследство. Т. 74. М. 1965. Стр. 345-346)Даже этим — весьма робким, надо сказать, — надеждам, как мы знаем, не суждено было сбыться. Но тут важны не столько даже эти робкие его надежды, сколько, по-видимому, искренняя его уверенность, что все дурное, порочное, нежизнеспособное и убивающее живую жизнь в сталинской государственной системе, это, как тогда принято было говорить, — перегибы. А генеральная линия — правильная. Ну, там, правильная или неправильная, но, во всяком случае, в основе своей никаким коренным изменениям она не подлежит. «Основы нашего законодательства и строя» представлялись ему незыблемыми.
Естественно, такой же правильной и, уж во всяком случае, такой же исторически неизбежной представлялась ему и колея, проложенная Петром.
Как бы то ни было, создавая этот свой роман, он честно выполнял сталинский заказ. И выполнил его добросовестно. Мало того, как это ни удивительно, — талантливо.
Уже второй раз я замечаю, что несомненная талантливость этого «заказного» толстовского романа вызывает удивление. А собственно, почему? Чему тут, вообще-то говоря, удивляться? Так ли уж трудно профессионалу, а тем более такому выдающемуся мастеру, каким был А.Н. Толстой, не снижая уровень своего мастерства и таланта, выполнить любой социальный заказ?
То-то и дело, что настоящему художнику это ох как не просто. А такому, каким был А.Н. Толстой, такая задача, казалось бы, и вовсе должна была оказаться не по силам.
Юрий Олеша в своих воспоминаниях об А.Н. Толстом приводит такое удивительное его признание:
— Послушайте, — сказал Толстой, — когда я подхожу к столу, на котором лист бумаги, у меня такое ощущение, как будто я никогда ничего не писал; мне страшно — такое ощущение, как будто придется сесть писать впервые… Как я буду писать, думаю я, ведь я же не умею!
Приведя эту, до глубины души поразившую его реплику «живого классика», Олеша замечает:
Передо мной время от времени встает такой образ (видеть который не мешало бы каждому молодому писателю): вот он, Алексей Толстой, подходит к белеющему листу бумаги — со своей трубкой в чуть отведенной в сторону руке, мигая и со сжатым ртом… Тревога на его лице! Почему тревога? Потому что он не уверен, умеет ли он писать!
Это он не уверен — Алексей Толстой, умевший создавать то, что история относит к чудесам литературы!
Самое замечательное тут то, что Олеша ни на секунду не усомнился в безусловной подлинности этого потрясшего его признания. Ему даже и в голову не пришло, что «классик» рисуется, кокетничает. Он не сомневается в его абсолютной искренности.
Не усомнился же он в этом потому, что сам был — художник Божьей милостью, и по собственному опыту знал, что чудо — на то оно и чудо! — может и не повториться. Вот этой-то неуверенностью в том, что однажды совершенное им чудо он всегда сможет повторить, и отличается волшебник от фокусника. Фокус — дело рукотворное. Как говорят в таких случаях, ловкость рук и никакого мошенства. Искусству фокусника, каким бы виртуозным оно ни было, можно научиться. Волшебниками — рождаются.
В том, что А.Н. Толстой был не фокусник, а волшебник, не сомневались не только горячие поклонники его таланта (к каковым, безусловно, принадлежал Юрий Олеша), но и те его собратья по перу, которые относились к нему в высшей степени нелицеприятно.
Природу своих художественных удач, равно как и причину всех своих художественных провалов, Алексей Николаевич прекрасно объяснил сам (невольно, конечно), когда отвечал на постоянные вопросы читателей и критиков о том, как он работает.
Вот лишь некоторые из этих его ответов:
Есть писатели (говорят), которые составляют план, разбивают его на главы и затем пишут то, что им в подробностях уже известно. Я не принадлежу к их числу… Если я буду писать по придуманному плану, то мне начнет казаться, что искусство — бесполезное и праздное занятие, что жизнь в миллион раз интереснее, глубже и сложнее, чем то, что я придумал за трубкой табаку. Я даже не верю в существование писателей, пишущих по плану.
Бывает так, — и это самое чудесное в творчестве, — какая-то одна фраза, или запах, или случайное освещение, или в толпе чье-то обернувшееся лицо падают, как камень в базальтовое озеро, в напряженный потенциал художника, и создается картина, пишется книга, симфония. И художник дивится, как чуду, тому, что невольно, без усилия, создается стройное произведение, будто под диктовку или будто чья-то рука водит его кистью.
Из всех этих приведенных мною цитат ясно видно, что А.Н. Толстой был органически неспособен писать по заказу. Не то что навязанная извне, готовая историческая и идеологическая схема, но даже им самим набросанный план будущей вещи нагонял на него смертельную скуку. А скука, сказал он однажды, «вернейший определитель нехудожественности», имея при этом в виду отнюдь не ту скуку, которую испытывает читатель (это было бы просто банальностью), а ту, которая предупреждает его самого в процессе работы, что он сошел с единственно верного пути.
И вот тут-то сразу и возникает сам собою напрашивающийся вопрос: а как же «Петр Первый»?
В феврале 1941 года Б.Л. Пастернак обронил в письме к своей двоюродной сестре Ольге Фрейденберг:
…Атмосфера опять сгустилась. Благодетелю нашему кажется, что до сих пор были слишком сентиментальны и пора одуматься. Петр Первый уже оказывается параллелью не подходящей. Новое увлечение, открыто исповедуемое, — Грозный, опричнина, жестокость.
Борис Леонидович, стало быть, прекрасно понимал, что концепция романа о великом реформаторе России была А.Н. Толстому заказана. И не кем иным, как «Благодетелем», то есть — самим Сталиным. И в то же время он искренне восхищался этим толстовским романом. Да и ни у кого никогда не возникало ни малейших сомнений в том, что этот роман — безусловная, неоспоримая удача писателя.
Так как же все-таки это получилось, что, желая угодить Сталину, А.Н. Толстой ухитрился при этом создать едва ли не лучшую свою книгу?
* * *
У Булгакова в его «Театральном романе» описывается вечеринка, организованная группой московских писателей «по поводу важнейшего события — благополучного прибытия из-за границы знаменитого литератора Измаила Александровича Бондаревского». В знаменитом литераторе без труда угадывается А.Н. Толстой:
Чист, бел, свеж, ясен, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взором пиршественный стол:
— Га! Черти!
И тут порхнул и смешок и аплодисмент и послышались поцелуи. Кой с кем Измаил Александрович здоровался за руку, кой с кем целовался накрест, перед кой-кем шутливо отворачивался, закрывая лицо белой ладонью, как будто слеп от солнца, и при этом фыркал…
Едва отзвучали первые тосты, присутствующие дружно стали требовать, чтобы Измаил Александрович рассказал им про Париж. И Измаил Александрович, не заставляя особенно долго себя упрашивать, стал плести одну историю за другой: