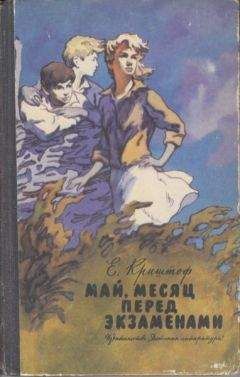Елена Криштоф - Сто рассказов о Крыме
Впрочем, не казалось — это было истинное положение вещей…
…Павел Степанович Нахимов погиб и в самом деле на Малаховом кургане. Он был смертельно ранен 28 июня 1855 года.
По свидетельству очевидцев, на этот раз в ответ на просьбу уйти в укрытие Нахимов произнес не свое любимое: "Не всякая пуля в лоб", но сказал задумчиво: "Как ловко стреляют", и тут же упал, смертельно раненный в голову.
В доме возле Графской пристани, где жил Нахимов, где он писал письмо вдове Лазарева, гроб его был покрыт несколькими пробитыми в боях флагами…
От скромной квартиры адмирала до самой церкви стояли два ряда солдат, взяв ружья на караул. Огромная толпа сопровождала прах героя, не боясь быть рассеянной вражеской картечью. Грянула военная музыка полный поход, грянули салюты пушек, корабли приспустили флаги до половины мачт, для Севастопольской обороны наступали иные дни…
И каждый понимал это, поднимаясь на гору к собору, каждый знал, что теряет. Тело Нахимова опустили подле гробов его товарищей, предали земле как раз в том месте, где сам он стоял, когда хоронили Истомина.
Четыре жизни матроса Кошки
Матрос Кошка прожил, я считаю, четыре жизни, каждая из которых была не похожа на все остальные и не всегда вытекала как будто из предыдущей.
О первой, крестьянской, его жизни никто не помнит, и сам он ушел из нее навсегда, в солдатчину, в мир походов, маневров, где едко пахла начищаемая мелом медь амуниции и тяжело хлопали паруса. Вторая же началась по-настоящему в Севастополе в ноябре 1854 года, на батарее капитан-лейтенанта Перекомского, куда попал матрос в начале осады. Тогда были списаны на берег первые экипажи с кораблей.
…Белая севастопольская земля раскисла от беспрерывных дождей и холодила тощее брюхо так, что двигаться хотелось до отчаяния, до пренебрежения к самой смерти. А еще больше хотелось сытых горячих щей вместо гнилых сухарей. О чарочке, — что говорить! — о ней уже и не мечтал, только вспоминал, как привычно разливается ее тепло, шевеля помимо воли руки и ноги.
Шла обычная окопная жизнь с перестрелками, с вылазками, с чувством, что и она может оборваться, если вдруг задумаешься, пожалеешь ее всерьез. Шла привычная жизнь, в которой он, неказистый, верткий и низкорослый, с желтыми отчаянными глазами, считался и был во время вылазок не храбрее многих. Но вот французская пуля достала Ивана Волосенко, как многих доставала. А утром выставили враги его тело на своем бруствере, еще и подперли, чтоб стоял Иван, чтоб свои же, неметкие, молодые солдатики в него попадали во время перестрелки, и это было уже невыносимо…
Кошка смотрел на закостеневшее, плоское Иваново тело, ругался вместе с другими и вдруг вспомнил, как Иван на прошлой неделе дал ему дратву и шило схватить разваливающийся задник сапога. Да не только дал, но и сам показал, нажимая сильными, желтыми от табака пальцами, как ловчее пустить шов.
— Ваше всокородь, ось бачьте, згиляются, дозвольте сходить его выручить! — Кошка стоял, пыжа грудь, перед Перекомским, краем глаза показывал в сторону, туда, где стыл Иван. — Нехорошо нашим на Ивана смотреть — усомниться могут.
Перекомский устало потер щеки, всматриваясь в невзрачное лицо матроса с лихо подвернутыми усами:
— Пожалуй, ты прав, братец — нехорошо. До ночи, однако же, подождать надо, и посоветоваться не лишнее, у нас каждый на счету.
К ночи разрешение было получено. Кошка пополз, прикрыв казенную шинель грязной мешковиной. Однако совсем близко от Ивана стоял часовой: подступиться оказалось невозможно. Но и вернуться ни с чем он не хотел. "Усомниться могут", — ворчал он, беззвучно, локтями и острыми коленями вжимаясь в землю за белым камнем возле самых вражеских позиций. Там пролежал весь день до следующей ночи, а в той ночи до смены караула.
Один миг был, пока солдаты, замешкавшись, стояли к нему спиной, но мига хватило: Кошка подставил мертвому свою спину и вместе с ним побежал к русским окопам.
— Страх небось все поджилочки тряс? — спрашивали Кошку.
— Да нет, страху чего ж поддаваться! Поддашься — и нет тебя. Так что я не о страхе — об обиде думал…
— А может, о чарочке?
— Без нее не обойдется. — Он подмигивал негустой, лихо заломленной бровью. — А я теперь, братцы, всегда туда буду ходить, чтоб не сомневались.
И он действительно каждую ночь ходил, точнее, полз к вражеским позициям, приволакивая «языков», приносил дальнобойные ружья союзников, патроны к ним. Однажды, за неимением лучшего трофея, явился с госпитальными английскими носилками.
Но больше всего любил не тихие эти визиты в стан противника, а ту кутерьму, какая начиналась на передовой, когда англичане, охотясь за ним, палили в белый свет, как в копейку. Странное чувство гордости поднималось в нем оттого, что на него одного изводят свои боеприпасы целые батареи.
Его знал уже весь Севастополь, а он был примером, и это тоже волновало кровь. Заставляло все время делать что-то такое, чтоб превзойти самого себя.
Так, он угнал у англичан лошадь, оказавшуюся между батареями. И не так уж нужна была эта белая кобыла, сколько хотелось показать, чего стоит русская лихость, чего он сам стоит… Но, кроме лихости, которая бродилом бродила в нем, горячей кровью толкаясь в пальцы рук и ног, кроме лихости жила в нем любовь к Севастополю, только он не мог выразить ее словами. Слова были простые, маленькие: "Так что все умрем, ваше благородие", а любовь заходила в грудь, как доходит до самого сердца теплый, погулявший в полях ветер.
…Третья, вроде бы последняя жизнь началась тогда, когда рядовой П. М. Кошка был отпущен теперь уже навсегда из флота и уехал на родину в Подольскую губернию, в хату под соломой и с вишневым садочком.
А четвертая — не имеет конца:
— Матроса Кошки остановка! Следующая — Малахов курган, — объявляет кондуктор в троллейбусе сто двадцать лет спустя.
…Севастопольская учительница задала своим ученикам сочинение, в котором они должны были описать событие или судьбу, скрывающуюся за тем или иным памятником города. Учительница не ограничивала ребят ни хронологическими, ни какими-нибудь другими рамками.
Естественно, выбрали себе героем и матроса Кошку. Причем они писали так: Матрос Кошка — с большой буквы. А что? Это было его имя, может быть, если вдуматься, звучащее несколько необычно, но так сросшееся с фамилией… В разных сочинениях о матросе говорилось разное, а в одном вот что:
"Матрос Кошка был храбрым разведчиком. Он каждую ночь пробирался в окопы к фашистам и приводил оттуда языков. Он был сильный и выносливый и однажды притащил трех пленных сразу. Враги боялись Матроса Кошку, а он не боялся их, потому что решил оборонять Севастополь до последней капли крови…
Матрос Кошка погиб, когда наши брали Сапун-гору. За его бессмертный подвиг Матросу Кошке поставили памятник. Все вы видели этот памятник на проспекте Героев".
Может быть, кто-нибудь скажет: незнание истории, и все тут. А я скажу: просто для мальчишки, только что начавшего ходить в школу, история слилась в один сплошной, протяженный во времени подвиг, блестящий, словно длинная остановившаяся молния. И сам Петр Кошка встает перед ним не маленьким, курносым, незнающим грамоты недавним крестьянином, но богатырем в тельняшке, едва не лопающейся на мощной груди. И уж, конечно, никто из них не может представить, что умер матрос у себя в подольском селе, а не в бою, взлетев на гребень вражеского окопа.
Даша Севастопольская
Она была рослая, темноволосая, синие глаза ее смотрели самостоятельно, не по возрасту, потому что она осталась сиротою, и сама должна была определять свою жизнь.
Соседка, оторвавшись от корыта, в котором стирала господское белье, говорила ей, быстро глотая слова:
— Там така хмара стоит, моря за кораблями не видно! Ты меня слушай, девка, войны той не на один день. Мне сам Николай Михайлович, их благородие, говорили: миром надо за Севастополь стоять!
Как они будут стоять миром за свой город, ни Даша, ни соседка, бывшая куда старше, еще не понимали, но их волновали и эти слова, и предчувствие опасности. И Даша смутно ощущала еще как бы какое-то перемещение, движение времени возле себя, и ей хотелось пристроиться к этому движению на манер того, как летом на выбеленной солнцем улице мальчишки пристраиваются к марширующей роте. Кажется, что рота прямо сейчас с твоей щербатой, заросшей дерезой Корабельной отправится в дело. Как же тебе отстать?
— Я скажу: продавай хату, покупай конячку с бричкой, а насчет товара людей спросим, какой пойдет…
Даша ничего не отвечала, только чувствовала, как от нетерпения напрягается тело. И я вижу, как быстро, чтоб заняться чем-то, перекладывает она тугую, молодую косу на затылке, как развязывает тесемки фартука и все смотрит туда, откуда надвигается на нее и на город совсем неизвестное будущее. К сожалению, вижу я это только своим внутренним взором, а того, какой была Даша на самом деле, никто с точностью сказать сегодня не может.
![Айн (http://marsexxx.com, [email protected]) - Источник](/uploads/posts/books/no-image.jpg)