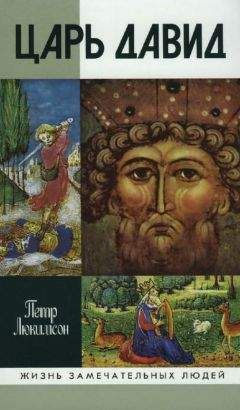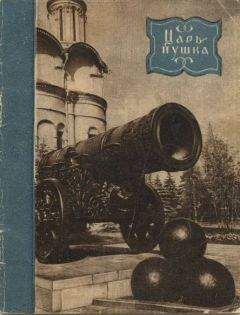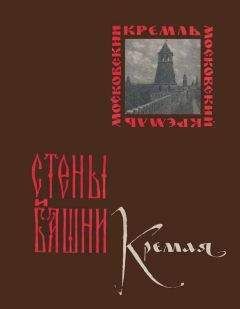Сергей Карпущенко - Лже-Петр - царь московитов
Петр пробудился, вспомнил видение и тихо заплакал. Предсказание иеромонахов не сбылось.
Но "Дельфин" уже подрагивал дубовым своим телом, подминая под себя волну за волной в открытом море.
6
А ИЗО РТА - ОГОНЬ, ДЫМ И СЕРА
- Государь, - наклонился Лефорт к самому уху Лже-Петра, покачивавшегося в дреме, прислонясь головой к стеганой стенке кареты, прикажите в Кремль не заезжать, а проследовать в Преображенское. Для чего вам прямо с дороги выходить на люди?
Приближаясь к Москве, об этом Лже-Петр знал, и совет, очень похожий на приказ, данный его тайным советником Лефортом, показался стряхнувшему с себя дрему Лже-Петру весьма дельным. Да, с тех самых пор, как он узурпировал титул государя всея Руси, минуло почти что девять месяцев, не прошедших для самозванца даром. Его русская речь стала тверже, с каждым днем обращался он к подданным своим, к членам магистратов, к купцам, вельможам, даже коронованным особам без излишней строгости, но и без малейшей лести - как подобает человеку, уверенному в своем прочном положении, в том, что за спиною сила, власть, несметная казна и, что всего важнее, царственное происхождение. Лже-Петр, однако, особым положением своим не наслаждался, а видел в нем источник каждодневной заботы: чтобы не дать маху в мелочах, не промахнуться на незнании обычаев страны, речи русских, и главным испытанием для себя видел первые дни пребывания в Москве. Вот почему он сразу же кивнул, едва услышал, какой совет дал ему Лефорт.
- Меншикова ко мне позвать, - приказал он стольнику, приподнимая кожаную занавеску на окне кареты, и скоро Александр Данилыч, боясь запачкать сапоги в дорожной грязи, на ходу вскочил в карету, в которой тряслись царь и Лефорт.
- Ну, мейн герцбрудер, под самой столицей твоей державы милостью Господней едем! То-то ж сегодня с дороги дальней пир затеем - Иван Великий закачается, ей-ей! Гонцов-то вперед давно послали - ведают в Москве, что на подъездах. Баньку уж истопили!
- Нет, чаю, не истопили, - сквозь зубы проговорил Лже-Петр. - Я тех гонцов воротить приказал. В Преображенском вначале переночуем. Прикажи-ка туда заехать.
- Ну, как прикажешь, - пожал плечами Меншиков и вылез из кареты, сильно качнув её. Лже-Петр бросил на Лефорта взляд и в который уже раз поймал себя на мысли, что пять минут назад он, повелитель, покорился этому остроглазому человеку.
"Пусть покамест будет так, - подумал про себя. - Я выжму из Лефорта знания о русских, его опыт, умение жить в чужой стране, а потом швырну его в яму для отбросов, как швыряют померанец, из коего выжат сок. Подданными надо пользоваться, пока они нужны".
Приподняв занавеску и выглянув в окно, Лже-Петр увидел высокие, чудные кровли теремов с сенями, повалушами, украшенные маковками, флюгерами, прапорцами. Кое-где крытые медью, свинцом, гонтом "в чешую", крыши необыкновенных, налепленных друг на друга построек, точно зеркало, отражали лучи уходящего солнца. Загикали кучера, громче защелкали бичи, и вдруг конюхи, то ли подчиняясь чьему-то приказу, то ли невольно выражая радость приезда домой, зычно, но на какой-то верхней, очень трудной ноте затянули песню, словно посылая вперед вместо гонцов весть о возвращении царя.
А в Кремле, в опустевшей, прохладной Грановитой палате, в самом дальнем от входа её углу за дубовым, не покрытым скатертью столом сидели двое. На столе - нехитрая снедь, в серебряном кувшине - сыченый мед. Сидят друг против друга, бороды понуро свисают к сложенным рукам.
- Ну, боярин, будем завтра с тобой ответ держать перед царем, как его владенье берегли, - проговорил Тихон Никитич Стрешнев, не старый ещё мужчина, бывший царев дядька. На него да на Ромодановского, что сидел сейчас напротив, оставил, уезжая, Петр все государство.
- Ответим... - как-то неопределенно буркнул Федор Юрьевич, вечно гордый тем, что один лишь взгляд его умел нагнать такой лютый страх, что даже думные бояре старались не попадаться на его глаза, бесовато поблескивающие из-под густющих, низко повисших бровей. - Нам-то ответить нетрудно, боярин, - мы государевой казной не сорили, пошлины и подати собирали исправно, о границах пеклись, отчую веру берегли да и сами никакого сраму не чинили. Ну, побаловали у нас стрельцы, так они и прежде на баловство повадны были. Мы же их живо к ногтю прижали, баловство то извели, и об оном государю немедленные и скорые отписки давали. Чего ж нам не ответить... Пущай кто другой бы о своем походе ответ нам дал, да токмо не стребуешь с сей персоны ответа...
- О ком же ты, Федор Юрьич, речь ведешь? - притворился простоватым Стрешнев, догадывавшийся, на кого намекал Ромодановский.
- Да о ком? - удивился боярин. - О том, кто государем себя величает, кто на великую казну, коей мы здеся оберегателями остались, ружья немецкие десятками тысяч штук покупает и пушки, будто у нас своего огнестрельного припасу нет, гадов всяких заморских к нам везет, иноземцев-проходимцев, от коих скоро в Москве проходу не будет, лютеран да кальвинистов.
- Смело ты говорить научился, Федор Юрьич, - насупился Стрешнев, сам наслышанный про непомерные траты царя, но не смевший и словом обмолвиться о пустоте и никчемности государевых расходов.
- Пусть смело! - не испугал Ромодановского укор. - Кабы не сумневался я кой в чем, так и молчал бы себе, в рот воды набравши. А сумнительства мои такого свойства, такого... Получил я с месяц назад от боярина Возницына из дальних мест письмишко, сам-то погляди... - Долго доставал откуда-то из-под шубы вчетверо сложенный листок бумаги. - Был у меня с Прокопием Богданычем уговор один перед его отъездом: коли явится нуждишка написать ко мне о чем потайном, так пусть напишет молоком меж строк в письме каком неважном. Ну, вот и прислал писульку, почитай.
Стрешнев принял бумагу, подальше отставив лист от глаз, но поднеся поближе к свечке, пробежал глазами, долго не мог сообразить, наконец подбросил брови к разделенным на две равные части блестящим от жира волосам.
- В разум не возьму, али опупел Возницын? Мнит, что тайно подменили царя Петра? Подозревает, что истинного опоили в кабаке да иного подпихнули? Нет, постойте! Али вот тебя, к примеру, Федор Юрьич, можно кем подменить? Подсунут меня, Тихона Стрешнева, замест тебя, так разве не приметно будет, ежели к твоей жене в постель залезу?
Ромодановскому сравнение такое неприятным показалось, сделал ещё страхолюдей разбойничье свое лицо, не не выказал упрека, сказал:
- Здесь дело почудней - моя сука, может, и виду не подаст, только сильней подмахнет, а вот отчего лишь одному Прокопию разница бросилась в глаза, а ни Головин, ни Меншиков, ни проницательный Лефорт её не углядели, если и свершилась та подмена, не уразумею. О подмене у меня не от одного сего письмишка душа болит: ещё в январе аль в феврале, докладывали мне, бегал по Москве юродивый Никифор, так сей блаженный кричал по папертям да в рядах торговых, что-де в загранице настоящего царя Петра немцы на ненастоящего подменили, и что-де та подстава обернется для землицы русской новой смутой, голодом и мором, ибо возвратившийся к нам государь будет самим антихристом.
- Господи, помоги и защити! - поспешил прикрыться Стрешнев широким крестом.
- Постой креститься! Взял я того Никифора в застенок, маленько припугнул, кнутом три раза по чирьям да по болячкам его прошелся - завопил. Спрашиваю, что за срамотные ты о государе речи по Москве понес, языка лишиться хочешь? А юродивый мне все одно твердит: явилась Богородица к нему да тайну сию открыла. Велела про антихриста повсюду разносить, чтоб русский люд готовым был.
Стрешнев сидел ни жив, ни мертв. Длинное, лошадиное лицо стало ещё длиннее от изумленья.
- Да неужто и стрельцы по той причине буянить стали? - спросил, с трудом сглотнув.
- Надо думать, не без сей причины. Когда зачинщиков пытали, Ерша, Проскурякова, Туму, кое-кто из них при мне вопил, что подмененному царю они служить не будут - не таковскому крест целовали. Я, правда, те ответы писарю в бумаге не велел отметить. Пусть, думал, царь считает, будто токмо по женкам стрельцы соскучались, вот и двинулись к Москве. На деле же выходит, все куда серьезней, и не мог я взять в ток, как из неметчины явилась к нам та весть, о коей и Возницын под большим секретом мне поведал. Дивно и страшно мне!
- Как не страшно! - согласился Стрешнев. - Зачем нам подмененный царь? А ну как, чью волю выполняя, прикажет боярам головы направо и налево посрубать? Что ж, овцами пред ним предстанем да ещё колоды с собою принесем, чтоб сподручней ему было злотворство свое чинить? А вдруг прикажет казну опустошить, в лютеран удумает нас превратить али в папистов? Как не страшно! И ведь уже явился, но почему-то в Кремль и не заехал, а ведь ждали! Чудно!
Ромодановский пожевал губами, поиграл кустистыми бровями, сказал решительно, печатая слова:
- Тихон Никитич, час ещё не поздний, сходим в хоромы к царице Евдокии, в ноги ей падем - пусть нам в самом скором времени тихонько скажет...