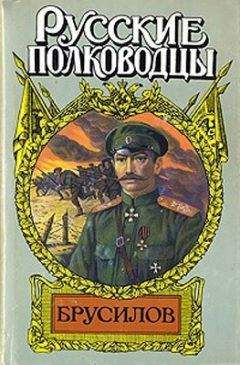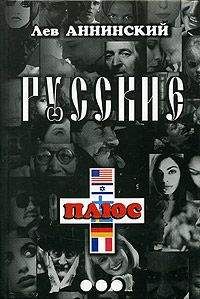Юрий Слёзкин - Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера
Противоречивость образа коренных северян лучше всех выразил наиболее известный и наиболее преданный их исследователь, финский лингвист Матиас Александр Кастрен. Будучи сам в высшей степени романтической натурой, Кастрен путешествовал по всей Сибири в поисках исторических корней своего народа, пока северный климат не унес его жизнь в возрасте сорока лет. Он жил среди своих «дальних родичей», самоедов, и неустанно изучал их язык и культуру, но его возмущало их отношение к женщинам, их пьянство, их пища, грубость, мрачность, «своекорыстная» религия и неспособность различать добро и зло: «Иногда мне приходило даже в голову, что светлый инстинкт, невинная простота, добродушие этих так называемых детей природы могли бы во многих отношениях пристыдить европейскую мудрость; но вообще в продолжение моих странствований по пустыням, к крайнему сожалению, я замечал рядом с хорошими чертами характера столько отвратительного, грубо животного, что я не столько любил, сколько жалел их»{315}.
Империя и инородцы
Превращение коренных северян в дикарей совпало с их закатом в качестве ясачных людей. К началу 1800-х годов войны, эпидемии и резкий рост численности чукотских стад привели к переменам миграционных путей дикого северного оленя. В результате этого без средств к существованию оказались многие юкагиры, ламуты, эвенки и коряки{316}. В первой четверги XIX в. тысячи людей умерли от голода, переселились в другие регионы или присоединились к более благополучным сообществам{317}. Между тем общинные ясачные оклады, установленные Ясачной комиссией, оставались неизменными. Как заметил один местный чиновник, «поскольку в некоторых родах немного людей, а в других родах имеется больше, а также из-за перемен в образе жизни и охоты, настоящие способы выплаты ясака стали крайне неравными для ясачных людей, и для некоторых из них — совершенно разорительными»{318}.[39]
Жалобы такого рода, а также отчаянные мольбы о снисхождении, поступавшие от сибирских купцов, игнорировались в столице до тех пор, пока губернатор И.Б. Пестель пользовался благоволением всемогущего графа А.А. Аракчеева{319}. Как только он его потерял, он лишился и своей должности, а в 1816 г. Александр I вернул из ссылки М.М. Сперанского и в 1819 г. отправил его в Сибирь «вынести на месте решение о наиболее подходящих организации и управлении этой удаленной областью»{320}. В бытность свою государственным секретарем молодого царя Сперанский взбудоражил российское «общество», написав проект далеко идущей административной реформы. Реформа не была приведена в действие, а ее автор был смещен, но теперь они были возвращены к жизни во благо многострадальных сибиряков. Обитателям «этой удаленной области» (никто толком не знал, была ли она частью России) предстояло получить то, на что тщетно надеялась столичная молодежь, — новое административное устройство. Страна блудных сынов и «отпрысков природы» должна была превзойти свое отечество. «Научась опытом покоряться Промыслу, — писал Сперанский Аракчееву, — иду в предлежащий мне путь, конечно, не без прискорбия»{321}.
Романтический мир, в котором жил Сперанский и многие его современники, состоял из органических наций, каждая из которых обладала своим собственным духом, своим жизненным циклом и своим уникальным вкладом в целое. Решающий первый шаг состоял в том, чтобы определить, какие группы людей обладают этими качествами и потому могут считаться «историческими нациями». Большинство образованных россиян исходили из того, что их необразованные соотечественники («народ») составляют нацию, по отношению к которой они, интеллигенты, являются либо изгоями, либо передовым отрядом. Более того, благодаря живучести старого «государственного принципа» русские обычно рассматривались как единственная историческая нация Российской империи. А это означало, что, за возможным исключением поляков, все прочие подданные царя должны были в конечном счете стать русскими — незамедлительно, как предлагал «официальный народник» М.П. Погодин, или со временем, как полагал декабрист П.И. Пестель{322}.
Вопрос о незрелых охотниках и собирателях, «к которым само слово “нация” неприменимо», казался ясным. У них «не было национальности», поскольку они «находились на нисшей степени гражданственности» и были «не связаны общим интересом, не подчинены одной, общей, глубоко сознанной идее самостоятельности»{323}. Однако сама их «дикость», казалось, требовала особого законодательного обеспечения, в котором прочие неисторические народы не нуждались. Это вытекало из специфических потребностей налогообложения и христианизации в «северных пустынях», но для законодателя-романтика это было и делом принципа. Вслед за Шеллингом, Фихте и Гердером Сперанский верил, что законы должны отражать духовные и интеллектуальные нужды народа, сформированные национальной историей и традицией{324}. Каждое общество проходит через детство, зрелость и старость, и «законодатель не может и не должен менять этот возраст, но он должен знать его точно и управлять каждым в соответствии с его собственным характером»{325}. Назидательным примером полного расхождения с этим правилом было фиаско колониальной политики Испании — таков, по крайней мере, был довод популярного трактата Доминика де Прадта «Des colonies», который Сперанский прочел вскоре после своего назначения{326}. «Европейцы, — писал де Прадт, — никогда не давали своим колониям ничего, что могло бы… удостоиться чести называться организацией»{327}. Они навязывали своим далеким подданным законы, которые не соответствовали местным условиям, и теперь Испания и Франция расплачиваются за это{328}.
Сперанский был полон решимости избежать подобных ошибок. Вскоре после своего прибытия в Сибирь он выяснил, что сибирские русские отличаются от европейских русских, а сибирские аборигены отличаются ото всех, кого ему доводилось видеть. «Нет ничего отвратительнее дикой природы, — писал он дочери после того, как посмотрел «киргизский» (казахский) праздник в окрестностях Омска, — если в самом деле это есть природа, а не одичавшее ея произведение»{329}. Одно было ясно: сибирскими русскими следовало управлять иначе, чем европейскими русскими, а сибирскими аборигенами — иначе, чем теми и другими.
Однако прежде чем предписывать народу законы, следовало определить «его возраст» и изучить его жизнь и традиции. Для решения этой задачи генерал-губернатор выбрал Гаврилу Степановича Батенькова, уроженца Тобольска, ветерана кампании 1812—1815 годов и реформатора-энтузиаста, который состоял инженером путей сообщения в несуществующем уезде в Сибири. Вместе со Сперанским Батеньков считал, что законодательство Российской империи «не признает ни истории, ни этнографии, ни климатологии и не ищет никаких данных в основание»{330}. В соответствии с этим он отправился изучать факты и за 1819—1820 годы, собрал статистические сведения о коренном населении Сибири. Разделив страну на три климатические зоны — северную, среднюю и южную, — Батеньков обнаружил, что социальные и экономические условия меняются в зависимости от природных условий. На севере «инородцы» составляют 91% населения и занимаются почти исключительно рыболовством и охотой; в средней зоне они составляют 17% и могут вести как сельское хозяйство (в основном татары), так и хозяйство присваивающее (остяки, тунгусы, якуты и юраки); и, наконец, на юге туземцы составляют 26% населения и преимущественно посвящают себя сельскому хозяйству и скотоводству, притом что 20% (по большей части тунгусы) до сих пор ведут жизнь бродячих охотников и рыболовов{331}. Иными словами, три различных географических зоны соответствовали трем различным типам экономического развития (трем «возрастам»). Верный своим принципам («Конституция есть не что иное, как нравы»){332}, Батеньков приступил к описанию этого положения дел в особом проекте, который был переработан Сперанским и в 1822 г. получил для Сибири силу закона как Устав об управлении инородцев. Будучи единственным всеобъемлющим официальным постановлением такого рода, Устав кодифицировал некоторые из существующих взаимоотношений и определил статус коренных обитателей Сибири на последующие сто лет[40].
Во-первых, все сибирские аборигены были формально объявлены инородцдми и «соответственно различным уровням их гражданского образования и настоящего образа жизни» разделены на три категории: «оседлые, то есть живущие в городах и селениях»; «кочевые, занимающие определенные места, по временам года переменяемые» и «бродячие или ловцы, переходящие с одного места на другое»{333}. Оседлые инородцы были в правовом отношении приравнены к русским тех же сословий (в основном к купцам или государственным крестьянам) и должны были иметь те же права и обязанности, за исключением воинской повинности. Кочевники должны были жить как прежде: отдельные роды владели своей территорией, на которую русских не допускали, и платили ясак пушниной, а также земские сборы. Бродячие инородцы были освобождены от всех поборов, кроме ясака, сохраняли свои земли нераздельными и обладали правом беспрепятственного перемещения из одного уезда или губернии в другую{334}. Наконец, чукчи были выделены в особую группу как инородцы «несовершенно зависящие», которые платили дань «по собственному их произволу, как в количестве, так и в качестве»{335}.