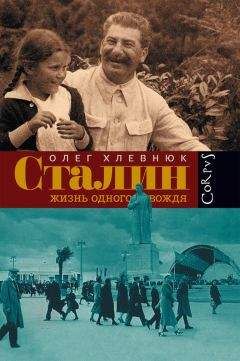Петр Кропоткин - Записки революционера
В корпусе, как и в других школах, проявилось новое серьезное стремление учиться. В прежние годы пажи были уверены, что так или иначе они получат необходимые отметки для выпуска в гвардию. Поэтому первые годы они ничего не делали; учиться чему-нибудь начинали лишь в последних двух классах. Теперь же и младшие классы учились очень хорошо. Моральная атмосфера тоже стала совершенно иной в сравнении с тем, что было несколько лет назад. Одна или две попытки воскресить былое закончились скандалами. Жирардот должен был подать в отставку. Ему разрешили, однако, остаться на старой холостой квартире в здании корпуса, и мы часто видели его потом, когда он, закутанный в шинель, проходил, погруженный в размышления - по всей вероятности, печальные; полковник не мог не осуждать новые веяния, которые быстро определялись в корпусе.
II.
Отражение в Пажеском корпусе пробуждения России. - Преподаватели
Вся Россия говорила тогда об образовании. После того как заключили мир в Париже и цензурные строгости несколько ослабели, стали с жаром обсуждать вопрос о воспитании. Любимыми темами для обсуждения в прессе, в кружках просвещенных людей и даже в великосветских гостиных стало невежество народа, препятствия, которые ставились до сих пор желающим учиться, отсутствие школ в деревнях, устарелые методы преподавания и как помочь всему этому. Первые женские гимназии открылись в 1857 году. Программа и штат преподавателей не оставляли желать лучшего. Как по волшебству, выдвинулся целый ряд учителей и учительниц, которые не только отдались всецело делу, но проявили также выдающиеся педагогические способности. Их труды заняли бы почетное место в западной литературе, если бы были известны за границей.
И на Пажеском корпусе тоже отразилось влияние оживления. За немногими исключениями, все три младших класса стремились учиться. Чтобы поощрить это желание, инспектор П. П. Винклер (образованный артиллерийский полковник, хороший математик и передовой человек) придумал очень удачный план. Он пригласил для младших классов вместо прежних посредственностей самых лучших преподавателей. Винклер был того мнения, что лучшие учителя всего лучше дадут начинающим учиться мальчикам первые понятия. Таким образом, для преподавания начальной алгебры в четвертом классе Винклер пригласил отличного математика и прирожденного педагога капитана Сухонина. Весь класс сразу пристрастился к математике. Между прочим, скажу, что капитан преподавал и наследнику Николаю Александровичу и что наследник поэтому приезжал в Пажеский корпус раз в неделю, чтобы присутствовать на уроках алгебры капитана Сухонина. Императрица Мария Александровна была образованная женщина и думала, что, быть может, общение с прилежными мальчиками приохотит и ее сына к учению. Наследник сидел на скамье вместе с другими и, как все, отвечал на вопросы. Но большей частью во время урока Николай Александрович рисовал (очень недурно) или же рассказывал шепотом соседям смешные истории. Он был добродушный и мягкий юноша, но легкомысленный как в учении, так еще больше в дружбе.
Для пятого класса инспектор пригласил двух замечательных людей. Раз он, сияющий, вошел к нам в класс и объявил, что нам выпало завидное счастье. Большой знаток классической и русской литературы профессор Классовский, говорил нам Винклер, согласился преподавать вам русскую грамматику и пройдет с вами из класса в класс все пять лет до самого выпуска. То же самое для немецкого языка сделает другой профессор университета, г-н Беккер, библиотекарь императорской публичной библиотеки. Винклер выразил уверенность, что мы будем сидеть тихо в классе, так как профессор Классовский чувствует себя больным в эту зиму. Случай иметь такого хорошего преподавателя слишком завиден, чтобы упустить его.
Винклер не ошибся. Мы очень гордились сознанием, что нам будут читать профессора из университета. Правда, в "Камчатке" держались того мнения, что "колбасника" следует сделать шелковым, но общественное мнение класса высказалось в пользу профессоров.
"Колбасник", однако, сразу завоевал наше уважение. В класс вошел высокий человек, с громадным лбом и добрыми, умными глазами, с искрой юмора в них, и совершенно правильным русским языком объявил нам, что намерен разделить класс на три группы. В первую войдут немцы, знающие язык, к которым он будет особенно требователен. Второй группе он станет читать грамматику, а впоследствии немецкую литературу по установленной программе. В третью же группу, прибавил профессор с милой улыбкой, войдет "Камчатка". "От нее я буду требовать только, чтобы каждый во время урока переписал из книги по четыре строки, которые я укажу. Когда перепишет свои четыре строчки, "Камчатка" вольна делать, что хочет, при одном условии - не мешать другим. Я же обещаю вам, что в пять лет вы научитесь немного немецкому языку и литературе. Ну, кто идет в группу немцев? Вы, Штакельберг? Вы, Ламсдорф? Быть может, кто-нибудь из русских тоже желает? А кто в "камчатку"?". Пять или шесть из нас, не знавших ни звука по-немецки, поселились на отдаленном полуострове. Они добросовестно переписывали свои четыре строчки (в старших классах строчек двенадцать - двадцать), а Беккер так хорошо выбирал эти строчки и так внимательно относился к ученикам, что через пять лет "камчадалы" действительно имели некоторое представление о немецком языке и литературе.
Я присоединился к немцам. Брат Саша в своих письмах так убеждал меня учиться немецкому языку, на котором есть не только богатая литература, но существуют также переводы всякой книги, имеющей научное значение, что я сам уже засел за этот язык. Я переводил тогда и выучивал трудное - в смысле языка - поэтическое описание грозы. По совету профессора я выучил все спряжения, наречия и предлоги и стал переводить. Это - отличный метод для изучения языков. Беккер посоветовал мне, кроме того, подписаться на дешевый еженедельный иллюстрированный журнал "Gartenlaube". Картинки и коротенькие рассказы приохочивали к чтению.
К концу зимы я попросил Беккера дать мне "Фауста". Я уже читал его в русском переводе; прочитал я также чудную тургеневскую повесть "Фауст" и теперь жаждал узнать великое произведение в подлиннике.
- Вы ничего не поймете в нем, сказал мне Беккер с доброй улыбкой, слишком философское произведение. - Тем не менее он принес мне маленькую квадратную книжечку с пожелтевшими от времени страницами. Философия Фауста и музыка стиха захватили меня всецело. Начал я с прекрасного, возвышенного посвящения и скоро знал целые страницы наизусть. Монолог Фауста в лесу приводил меня в экстаз, в особенности те стихи, в которых он говорил о понимании природы:
Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,
Warum ich bat Du hast mir nicht umsonst.
Dein Angesicht im Feuer zugewendet... etc.
(Могучий дух, ты все мне, все доставил,
О чем просил я. Не напрасно мне
Твой лик явил ты в пламенном сиянье.
Ты дал мне в царство чудную природу,
Познать ее, вкусить мне силы дал...
Ты показал мне ряд создании жизни,
Ты научил меня собратий видеть
В волнах, и в воздухе, и в тихой роще.)
И теперь еще это место производит на меня сильное впечатление. Каждый стих постепенно стал для меня дорогим другом. Есть ли более высокое эстетическое наслаждение, чем чтение стихов на не совсем хорошо знакомом языке? Все покрывается тогда своего рода легкой дымкой, которая так подобает поэзии. Те слова, которые, когда мы знаем разговорный язык, режут наше ухо несоответствием с передаваемым образом, сохраняют свой тонкий, возвышенный смысл. Музыкальность стиха особенно улавливается.
Первая лекция В. И. Классовского явилась для нас откровением. Было ему под пятьдесят; роста он был небольшого, стремителен в движениях, имел сверкающие умом и сарказмом глаза и высокий лоб поэта. Явившись на первый урок, он тихо сказал нам, что не может говорить громко, так как страдает застарелой болезнью, а поэтому просит нас сесть поближе к нему. Классовский поставил свой стул возле первого ряда столов, и мы облепили его, как рой пчел.
Он должен был преподавать нам грамматику, но вместо скучного предмета мы услыхали нечто совсем другое. Он читал, конечно, грамматику: но то он сопоставлял место из былины со стихом из Гомера или из Магабгараты, прелесть которых давал нам понять в переводе, то вводил строфу из Шиллера, то вставлял саркастическое замечание по поводу какого-нибудь современного предрассудка. Затем следовала опять грамматика, а потом какие-нибудь широкие поэтические или философские обобщения.
Конечно, мы не все понимали и упускали глубокое значение многого; но разве чарующая сила учения не заключается именно в том, что оно постепенно раскрывает пред нами неожиданные горизонты? Мы еще не постигаем вполне всего, но нас манит идти все дальше к тому, что вначале кажется лишь смутными очертаниями... Одни из нас навалились на плечи товарищей, другие стояли возле Классовского. У всех глаза блестели. Мы жадно ловили его слова. К концу урока голос профессора упал, но тем более внимательно слушали мы, затаив дыхание. Инспектор приоткрыл было дверь, чтобы посмотреть, как у нас идут дела с новым преподавателем, но, увидав рои застывших слушателей, удалился на цыпочках. Даже Донауров, натура вообще мятежная, и тот вперился глазами в Классовского, как будто хотел сказать: "Так вот ты какой!" Неподвижно сидел даже безнадежный Клюгенау, кавказец с немецкой фамилией. В сердцах большинства кипело что-то хорошее и возвышенное, как будто пред нами раскрывался новый мир, существования которого мы до сих пор не подозревали. На меня Классовский имел громадное влияние, которое с годами лишь усиливалось. Предсказание Винклера, что в конце концов я полюблю школу, оправдалось.