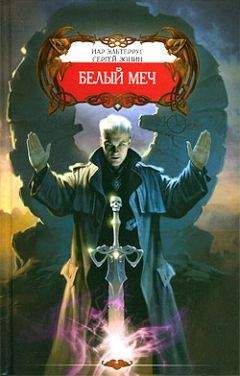Леннарт Мери - Мост в белое безмолвие
Курессааре и в те времена был не бог весть какой большой город, и некоторое время спустя Кадри, убирая господскую комнату, рассказала о прекрасном судне, пришедшем из Нарвы, господину Балаху, который второй месяц жил в корчме, хотя никто толком не знал почему. Вечерами он сидел в компании моряков, ставил им выпивку и слушал занятные небылицы о странствующих островах в далеком Эстерботтене, изредка вставляя слово, по утрам же сидел над бумагами, не обращая внимания на то, что его зовут завтракать. Выслушав рассказ Кадри о паруснике "Уллабелла", господин Балах покинул корчму и неторопливо зашагал по направлению к гавани. Без особого труда нашел он там "Уллабеллу", но капитан и господа купцы все еще были у фогта, улаживая дело с пошлиной. Вахтенному быстро наскучило объясняться на ломаном голландском языке, но поскольку господин Балах был меченосцем, матрос не решился прогнать незваного гостя и счел более правильным постучаться в дверь каюты. На стук вышел мужчина лет тридцати. На нем были охотничьи кожаные штаны и сюртук с меховой опушкой, в остальном же он был одет изысканно и богато.
- Я вижу, вы не моряк, - проговорил Балах с вежливым поклоном.
- Нет, я действительно не являюсь таковым, - улыбнулся Кожаные Штаны, вопросительно глядя на собеседника.
- Меня зовут Иоханн Балах, - произнес тот, приподнимая шляпу.
- Оливер Брунель*, - представился незнакомец, не двигаясь с места. Чем могу служить?
Неторопливо оглядев его вызывающе сильную фигу-{7}ру, Балах со свойственной ему задумчивостью промолвил:
- Вероятно, я не ошибусь, предположив, что позади у вас длинный путь?
Кожаные Штаны ничего не ответил, и тогда Балах, не обращая внимания на его надменный вид, чуть заметно улыбнулся и продолжал:
- Не соблаговолите ли вы доставить мне удовольствие и быть сегодня вечером моим гостем?
Если Кожаные Штаны и удивился его словам, то ничем не выдал себя, разве что в голосе его послышалось нетерпение:
- Я думаю, господин Балах, что столь неожиданное приглашение предполагает не менее веское его обоснование.
- Видите ли, дело в том, что я друг и помощник Герхарда Кремера.
- Сто чертей! - воскликнул Брунель и одним прыжком перемахнул на причал, к Балаху. - Не хотите ли вы сказать, что знаете Меркатора?*
Увидев, что Балах кивает головой в знак согласия, Брунель расхохотался, хлопая себя на татарский манер по ляжкам, и под удивленным взглядом Балаха несколько раз повторил:
- Какая судьба! Боже милостивый! Если бы вы только знали, какая судьба!
Выражение радостного изумления не сходило с лица Брунеля и позже, когда, придя в корчму, он расположился за столом в господской комнате и Балах зажег свечи.
- Какой удивительный случай свел нас сегодня! - взволнованно повторил он.
В эту минуту стукнула дверь, в кругу света появилась Кадри и принялась расставлять на столе копченую рыбу, соленые огурцы, маринованные грибы и можжевеловую водку. Мужчины наблюдали за ней с отсутствующими лицами.
- Спасибо, Кадри, - кивнул Балах, - ты нам больше не нужна.
Девушка растаяла в темноте, дверь, скрипнув, затворилась. Брунель до краев наполнил свой бокал, поднес его к пламени свечи, долго разглядывая на свет, потом поставил обратно на стол и, взглянув на Балаха, проговорил: {8}
- Каждое слово, которое будет сегодня сказано между нами здесь, в Аренсбурге, изменит карту мира.
"О небо, - подумал Балах, - уж не оплошал ли я с этим славным малым?" Однако не повел и бровью - он умел слушать и подбадривать собеседника опущенным взглядом.
- Господин Балах, - продолжал Брунель, - как вы и предполагали, я действительно возвращаюсь из дальнего путешествия. Я плыву из Ледовитого моря, где мы открыли проход в Угорию и оттуда дальше самый краткий судоходный путь, ведущий в сердце Азии, в Китай. Теперь он от нас не дальше, чем Наварра от Нарвы.
На мгновение в комнате стало так тихо, что можно было слышать крик чайки, кружащей над гаванью, стук колотушки ночного сторожа и шум моря, не затихающий здесь ни утром, ни вечером, ни летом, ни зимой.
- Но это значит... это значит, что вы открыли Северо-Восточный проход?! - хриплым голосом проговорил Балах.
- Да, это Северо-Восточный проход,- повторил Брунель. - Так и запишите: в благословенном богом 1581 году в городе Аренсбурге Оливер Брунель рассказал Иоганну Балаху, другу знаменитого картографа Меркатора, как был открыт Северо-Восточный проход.
Кадри сделала свое дело, Кадри может уйти.
Почему же мы не ставим на этом точку?
НОСТАЛЬГИЯ
Я взял с собой овчинный полушубок, а чтобы уменьшить вес своего багажа, оставил дома палатку и спальный мешок. Тем самым одни пути открылись передо мной, другие закрылись, только пока я еще сам не знаю, какие именно. Знаю только цель путешествия: Северо-Восточный проход. И конечный пункт: Уэлен. Разве уже само это название не звучит обнадеживающе? Будто вода перекатывается через гладкие камни. Уэлен - так называется поселок, населенный чукчами и эскимосами и расположенный на берегу Берингова пролива, на самом восточном мысе Азии, протянувшемся на десяток градусов долготы в пределы Западного полушария (169° 40?W). До него тринадцать тысяч пятьсот километров, если счи-{9}тать все зигзаги пути, о которых я пока даже не подозреваю. Один ли я? Графин на полированном столике вагона тихо позвякивает в такт перестуку колес, ковер заглушает шаги, по ночному полутемному коридору ко мне тянется голубоватая полоска сигаретного дыма. Моя соседка по купе, женщина с благородными чертами бледного лица, маленькая и хрупкая, тем не менее она кажется куда сильнее атлетически сложенного матроса, молча стоящего у окна рядом. Это семья испанских эмигрантов, мать и сын. Они едут на Кубу, где надеются обрести новую родину или хотя бы родной язык, но за годы, которые юноша провел в мореходном училище, они успели привыкнуть к Таллину, может быть, привязались к этому портовому городу "старой доброй Европы", и теперь отблеск их благодарности падает на меня. Они беспомощно молчат. Люди вдвоем тоже могут чувствовать себя одинокими. А у меня ничего не вышло с экспедицией на Чукотку. Так мы и стоим, каждый у своего окна, каждый погруженный в свой собственный мир. Ветер расплющивает струи дождя, за стеклом непроглядная темь, в ней зажигаются и гаснут желтые звезды: это мои путеводные звезды, мои спутники по Северо-Восточному проходу. Один из них шел на Чукотку пешком через Тарту, присел за Нарвой у колодца отдохнуть и записал в дневнике следующие строки:
"Куда бы ни привел тебя твой путь, среди каких бы жестоких дикарей и хищных зверей ты ни странствовал, наблюдай за Человеком, цивилизованным или диким, к какому бы племени он ни принадлежал, какому богу ни поклонялся. О жестокости его обычаев суди благосклонно. На обиды, и дурное отношение, которые могут выпасть на твою долю во время путешествия, не отвечай тем же. Не обращай внимания на случайные обстоятельства, не единожды заставлявшие людей отказываться от самых лучших намерений и лишавшие мир многих полезных открытий. Не вмешивайся в политику. Никогда не забывай, что самым увлекательным объектом исследования является Человек" (1820).
Эти строки принадлежат Кокрену*, но он не единственный мой попутчик. В его завещании заслуживает внимания уверенность в несхожести людей, точнее: убежденность, что различие между людьми не может служить основанием для их оценки. Эта мысль, которая в наши {10} дни воспринимается как сама собой разумеющаяся, в прошлом веке высказывалась не часто. Обычно первопроходец отправлялся на поиски самого себя, а не другого человека. А когда видел, что этот другой человек вместо вилки пользуется за едой палочками и к тому же отличается от него чертами лица и густотой волос, то вместо открытия происходило нечто совсем обратное. Музыка, этот самый хрупкий и, пожалуй, самый точный способ выражения человеком самого себя, для многих и сейчас остается непреодолимым барьером. Кто-то из моих друзей заметил однажды, что таджикскую, индийскую или арабскую музыку может слушать только сноб. Меня огорчает не само это признание, а скрытая в нем оценка. Она отдает полированным письменным столом и радио. Чтобы услышать музыку, надо приблизиться к ней. Стеллер*, странствуя по лесам Камчатки, учился у ительменов выкапывать корни и подстерегать рыбу, слушать шум реки и голоса животных, он усвоил их меру ценностей, и тамошние горы уже не вызывали у него воспоминаний об очаровательных альпийских пейзажах, а напоминали о голоде. Вот тогда-то он услышал и понял музыку ительменов. Она привела его в восторг, и если он сравнивает песни этого народа с произведениями Орландо ди Лассо*, то, конечно, не потому, что они похожи, а потому, что он хочет донести до читателей понятие абсолютной ценности искусства. Попытка, заранее обреченная на провал, ибо единой меры не существует. Отношение к музыке, по-моему, и является самым чутким мерилом, какое только может быть. Вот почему я так высоко ценю Стеллера. Последнее великое открытие, на мой взгляд, не нанесение на карту островов Антарктиды, а открытие человека человеком, и в этом смысле мы будем всегда жить в Эпоху Великих Открытий. Совсем недавно, перечитывая записи Крашенинникова, Кука, Сарычева, Биллингса, Сауэра, Врангеля, Матюшкина и многих других, я внезапно почувствовал, что всех их связывает нечто общее: в минуты слабости все они в той или иной степени испытывали чувство космической ностальгии. Первооткрыватель сидит рядом с открытым им туземцем у костра, ест из его котла, пьет из его кружки, слушает его песни - и испытывает мучительную тоску по человеку. Свободны от этого были, пожалуй, лишь Стеллер и молодой Форстер, и их преждевременная гибель стала словно бы неизбежной.