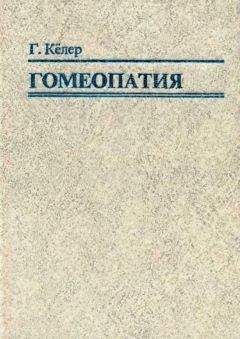Коллектив Авторов - Литература конца XIX – начала XX века
Однако значительного шага вперед в творческом развитии поэта «Цветущий посох» не обозначил. Вскоре Городецкий отходит от акмеистов и организует вместе с А. М. Ремизовым литературное общество «Краса», в которое вошли крестьянские поэты.
После Октября Городецкий становится активным участником нового литературного процесса.
3В 1905 г. вышел первый сборник стихов Николая Степановича Гумилева (1886–1921) «Путь конквистадоров», о котором впоследствии сам поэт не любил вспоминать в связи с его, как считал автор, художественной незрелостью. Затем появился сборник «Романтические цветы» (1908). В обеих книгах заметны отзвуки увлечения поэта творчеством символистов и поэзией парнасцев. Более самостоятельно Гумилев выступил в сборниках «Жемчуга» (1910; посвящен В. Брюсову) и «Чужое небо» (1912).
В ранней поэзии Гумилева господствовали апология волевого начала, романтизированное представление о «сильной личности» ницшеанского толка, которая решительно утверждала себя в необычно ярком, декоративно-экзотическом мире, где-то в далеком прошлом, в тропических странах. Его герои – жестокие, властные завоеватели, конкистадоры, открыватели новых земель. Среди них и герои, не лишенные индивидуалистического позерства, человек «без предрассудков», жестокий и храбрый воин. Это высокомерный римлянин Помпей, подчинивший своей воле захвативших его в плен пиратов («Помпей у пиратов»), и внешне импозантные, но бездушные капитаны (цикл «Капитаны»).[1101]
Опубликованная в «Аполлоне» декларация Гумилева в основном была направлена против эстетики «младших» символистов. Утверждая, что акмеизм отдает предпочтение «романскому духу перед германским», Гумилев писал, что у акмеистов «светлая ирония, не подрывающая корней нашей веры, ирония, которая не могла не проявляться хоть изредка у романских писателей, стала теперь на место той безнадежной, немецкой серьезности, которую так возлелеяли наши символисты».[1102] Своеобразная ирония характерна для ранних романтических произведений Гумилева. Таковы, например, стихотворение об «изысканном жирафе», живущем у озера Чад («Жираф»), и «Неоромантическая сказка» о людоеде, заключенном в «башню мрака, башню пыли».[1103]
Гумилев не был поэтом-лириком. В его творчестве отсутствует лирический герой, объединяющий воедино стихи определенных периодов. Это поэт, не склонный к созданию лирических циклов, что было характерно для символистов. Такие циклы появятся у Гумилева лишь в последние годы жизни. Стихи, в которых поэт выступает от первого лица, обычно погружены в мир экзотики, литературы, истории: «Я закрыл Илиаду и сел у огня…» («Современность»), «О Леконте де Лиле мы с тобой говорили…» («Однажды вечером») и т. п. В сборнике «Романтические цветы» был намечен двойственный облик поэта. В открывающем книгу «Сонете» читаем: «Как конквистадор в панцире железном, Я вышел в путь и весело иду». В этом же сборнике поэт манерно заявлял: «Сады моей души всегда узорны…» («Сады души»). Эта нарочитая двойственность и манерность будут характерны для него и в дальнейшем. В его стихах «было что-то холодное и иностранное», отмечал А. Блок.
Гумилев много путешествовал. В поэме о Колумбе («Открытие Америки», 1910) им воздана хвала «Музе Дальних Странствий». Экзотика стала не только темой, ею был пропитан сам стиль Гумилева. От стилизованной экзотичности и декоративности он стал избавляться, когда ближе узнал Африку. В 1911–1913 гг. Гумилев дважды посетил ее. В последний раз он возглавил экспедицию, организованную с целью сбора материалов для этнографического музея Академии наук. Работа эта увлекла поэта. Он писал:
Есть музей этнографии в городе этом
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.[1104]
И если К. Бальмонт знакомил читателя с культурой Латинской Америки, то Гумилев в русской поэзии стал зачинателем африканской темы.
Я пробрался в глубь неизвестных стран,
Восемьдесят дней шел мой караван
…
Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы.[1105]
Стихи об Африке, такой далекой в представлении читателей начала века, придавали особое своеобразие творчеству Гумилева. Африка в его поэзии овеяна романтикой и полна притягательной силы: «Сердце Африки пенья полно и пыланья» («Нигер»). Это колдовская страна («Абиссиния»), ее омывают «колдовские струи» («Красное море»), на каждом шагу в ней путешественника подстерегает опасность (см., например, стихотворение «Африканская ночь», 1913).[1106] Однако это Африка далекая от реальной Африки, в которой бесчинствует кровавый колонизаторский разгул.
Прославляя открывателей и завоевателей дальних земель, Гумилев все же не всегда закрывал глаза на судьбы покоряемых ими народов. Свидетельством тому служит «Невольничья» (1911) из цикла «Абиссинские песни» (в ней невольники мечтают пронзить ножом тело угнетателя-европейца) или «Египет» (1918).
В этом стихотворении симпатию поэта вызывают не властители страны – англичане, а ее истинные хозяева, те,
Кто с сохою или с бороною
Черных буйволов в поле ведет.[1107]
Выступая в качестве лидера акмеизма, Гумилев требовал от поэтов большого формального мастерства. Для его собственной поэзии характерна чеканность стиха, строгость композиции, подчеркнутая четкость в сочетании слов, тяготение к зрительному образу. Чаще всего Гумилев-поэт повествует, его излюбленный жанр – баллада с ее энергичным ритмом. В то же время его поэзия лишена серьезного жизненного содержания. В статье «Преодолевшие символизм» В. Жирмунский писал о Гумилеве: «Его стихи бедны эмоциональным и музыкальным содержанием; он редко говорит о переживаниях интимных и личных <…> Для выражения своего настроения он создает объективный мир зрительных образов, напряженных и ярких, он вводит в свои стихи повествовательный элемент и придает им характер полуэпический – „балладную“ форму».[1108]
Экзотическому красочному миру Гумилева, крайне далекому от подлинной реальности, свойственна патетическая приподнятость, но вместе с тем его поэзия холодна и вычурна. Любимым поэтом акмеиста был Т. Готье, художественному завету которого он следовал:
Созданье тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней –
Стих, мрамор иль металл.[1109]
В статье «Как я учился писать» Н. С. Тихонов, отметив тематическую и содержательную чуждость поэзии Гумилева новому времени, вместе с тем говорил, что у этого поэта можно поучиться «искусству образа, экономии стиха, ритмике».[1110]
На первую мировую войну Гумилев, вступивший добровольцем в лейб-гвардейский уланский полк, откликнулся «Записками кавалериста»[1111] и рядом стихотворений, в которых прославление войны сочеталось с религиозной символикой («Серафимы ясны и крылаты, За плечами воинов видны» – «Война», 1915).[1112]
Когда же суровая правда жизни объективно врывалась в произведения о войне (примером может служить «Наступление», 1914), –
Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня,
– то эта правда тотчас же снималась следующим за ней утверждением:
Но не надо яства земного
В этот страшный в светлый час,
Оттого, что господне слово
Лучше хлеба питает нас.[1113]
Религиозное чувство становится характерным и для невоенных стихов поэта, что придавало им не свойственное ранее поэзии Гумилева мистическое звучание.
В годы войны Гумилев остро ощутил оторванность своей поэзии от национальных основ, отсутствие в ней национального колорита. Одной из его поэтических тем была прапамять. Возвращаясь «к воспоминаниям» о своем давнем предке, поэт видит его то в образе гунна-завоевателя («Сонет» в книге «Чужое небо»), то в образе простого охотника («Простой индиец, задремавший В священный вечер у ручья… » – «Прапамять» в сборнике «Костер»). Теперь поэт начинает сознавать, что он прошел мимо одного из плодотворнейших творческих источников. Но по-настоящему обратиться к нему в своем творчестве он так и не смог. В стихотворении «Стокгольм» возникает образ героя, не нашедшего своего пути, своей истинной родины.
И понял, что я заблудился навеки
В слепых переходах пространств и времен,
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещен.[1114]
В рецензии на сборник «Колчан» Б. М. Эйхенбаум писал: «Русь пока не дается Гумилеву, „чужое небо“ <…> ему свойственней».[1115] В стихотворении «Я и вы» поэт подтверждал свое пристрастие к чужим напевам: «И мне нравится не гитара, А дикарский напев зурны».[1116]