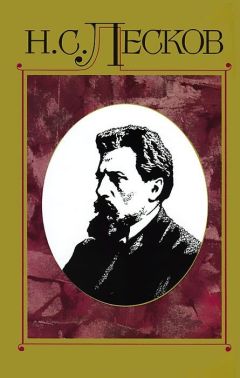Виктор Гюго - Труженики моря
сама Дерюшетта была такой улыбкой. Существует нечто, раскрывающее нашу душу больше, чем лицо наше, - это его выражение; и нечто, раскрывающее ее больше, чем выражение нашего лица, - это наша улыбка. Улыбающаяся Дерюшетта была подлинной Дерюшеттой.
Дар привлекать сердца - в крови гернсейцев и джерсейцев. Женщины, - а девушки особенно, - красивы цветущей безыскусственной красотой. Белизна саксонок у них сочетается с нормандской свежестью. Розовые щеки, голубые глаза.
Но глазам не хватает блеска. Их притушило английское воспитание. Эти ясные очи будут неотразимы, когда в них появится глубина взгляда парижанки. К счастью, Париж еще не вторгся в душу островитянок. Дерюшетта не была парижанкой, но не была и гернсейкой. Родилась она в порту Сен-Пьер, а воспитал ее месс Летьери. Он поставил себе цель сделать из нее пленительное создание и сделал.
Беспечный взгляд Дерюшетты был бессознательно задорен. Вряд ли она понимала, что означает слово "любовь", и покоряла сердца, сама того не ведая. О замужестве она и не помышляла. Как-то знатный старик эмигрант, обосновавшийся в Сен-Сансоне, сказал о ней: "Малютка дьявольски кокетлива".
У Дерюшетты были прелестнейшие в мире ручки, а под стать им и ножки; "четыре мушиные лапки", - говаривал месс Летьери. Весь ее облик дышал добротою и нежностью; вместо семьи и богатства у нее был дядя - месс Летьери, вместо труда - жизнь в свое удовольствие, вместо таланта несколько песенок, вместо образования - красота, вместо ума - невинность, вместо сердца - неведение; то была она томна, как креолка, то ветрена и резва, то по-детски весела и задорна, то задумчива и грустна; одевалась она во вкусе гернсейских модниц, красиво, но пестро, круглый год носила шляпки с цветами; у нее были каштановые волосы, чистый лоб, гибкая соблазнительная шейка, белая, летом чуть-чуть веснушчатая кожа, полные, свежие губы, а на губах сияние обольстительной и опасной улыбки. Такова была Дерюшетта.
Порою под вечер, после захода Солнца, в тот час, когда ночь спускается на море и в сумерках от него веет жутью, в узкий проход сенсансонской гавани на гребнях зловещих волн врывалась, свистя и отплевываясь, какая-то расплывчатая громада, какая-то чудовищная тень, страшилище, рычавшее диким зверем и курившееся вулканом; и эта сказочная гидра, изрыгавшая пенную слюну и оглушительно бившая плавниками, волоча хвост дыма и разинув огненную пасть, летела на город. Такова была Дюранда.
II
Извечная история утопии
Паровое судно в водах Ламанша в 182... году считалось не только новшеством, но и чудом. Все нормандское побережье долго пребывало в смятении. Сейчас никто и глаз не подымает на десять - двенадцать пароходов, снующих в разных направлениях на горизонте; разве только на минутку они привлекут внимание знатока, который определит по цвету дыма, что в топке вон того судна сжигается уэльский уголь, а вот этого ньюкаслский. Пусть себе плывут мимо. Пристанут - приветим. А отчалят добрый путь.
В первую четверть нашего века люди не столь миролюбиво относились к таким выдумкам; особенно косо смотрели на дымящиеся машины островитяне Ламанша. Пуританское население архипелага, поносившее английскую королеву в а то, что она осквернила библейские заветы [Книга Бытия, глава III, стих 16: "И в муках ты родишь?. (Прим, автора.)], разрешившись от бремени под хлороформом, первым делом окрестило пароход "Чертовой посудиной"Простодушным морякам тех лет некогда католикам, позже кальвинистам и во все времена людям суеверным, пароход, должно быть, казался плавучей преисподней. Один местный проповедник вопрошал: "Вправе ли мы заставлять воду работать заодно с огнем, если они разделены самим господом богом? И не напоминает ли сей железный огнедышащий зверь Левиафана? Не идем ли мы вспять, к хаосу?" Не впервые успехи прогресса воспринимались как возвращение к хаосу.
Академия наук в ответ на запрос Наполеона о паровом судне в начале века вынесла такой приговор: "Безумная идея, грубейшее заблуждение, нелепость"; сенсансонским рыбакам простительно, что в области науки они оказались на одном уровне с парижскими учеными; в области же религии такой маленький островок, как Гернсей, не обязан быть просвещеннее такого огромного материка, как Америка. В 1807 году, когда первый пароход Фультона с машиной Уатта, присланной из Англии, имея на борту, кроме экипажа, двух пассажиров - француза Андре Мишо и еще кого-то, совершил первый рейс из Нью-Йорка до Албани под командой Ливингстона, случаю угодно было, чтобы это произошло семнадцатого августа. Методисты завопили по этому поводу, пастыри во всех протестантских церквах предали проклятию паровую машину, возвещая, что число семнадцать равно сумме десяти щупалец и семи голов апокалиптического зверя. В Америке приравнивали к пароходу зверя из Апокалипсиса, а в Европе - зверя из книги Бытия. В этом и было различие.
Ученые отвергли идею парохода, как нечто невозможное; священнослужители, в свою очередь, отвергли ее, как что-то нечестивое. Наука отклоняла, церковь проклинала. Фультона считали подобием Люцифера. Простой народ - крестьяне и моряки - примкнули к хулителям, ибо им было не по себе от новшества. Вот точка зрения церкви: "Вода и огонь разлучены, и разлучены по божьему велению. Не должно разъединять то, что соединено богом; не должно соединять то, что им разъединено". А вот точка зрения простолюдина: "Глядеть на это боязно".
В те давние времена надо было обладать душою Летьери, чтобы отважиться на такое начинание и завести пароход, Курсирующий между Гернсеем и Сен-Мало. Только он, вольнодумец, мог пойти на это, только он, смелый моряк, мог осуществить свой замысел. Француз, сидевший в нем, подал мысль; англичанин, сидевший в нем, ее выполнил.
При каких же обстоятельствах? Об этом и поведем рассказ.
III
Рантен
Лет за сорок до того, как свершились события, о которых мы повествуем, в одном из парижских предместий, между Львиным рвом и Томб-Иссуар, к городской стене прилепилась подозрительная лачуга. Домишко стоял на отлете и служил разбойничьим притоном. Жил-поживал в нем с женой и сыном некий обыватель, на деле - вор, бывший прокурорский писец в Шатле, а ныне заправский грабитель. Он кончил скамьей подсудимых. То было семейство Рантенов. В домишке, на комоде красного дерева, виднелись две расписные фарфоровые чашки; на одной было выведено золотом: "В память о дружбе", на другой - "Дань уважения". Мальчик рос в трущобе, бок о бок с преступлением. Родители, выходцы из полубуржуазных кругов, учили сына грамоте, так сказать, воспитывали. Мать, истощенная, неряшливо одетая женщина, рассеянно "давала образование" малышу, заставляя его читать по слогам, и часто отрывалась от занятий, чтобы помочь супругу в воровских его делах или чтобы продаться первому встречному. Букварь, открытый на той странице, где было прервано чтение, лежал на столе, а рядом, задумавшись, сидел мальчик.
Папаша и мамаша Рантены были пойманы на месте преступления и исчезли во мраке тюрьмы. Куда-то исчез и сын.
Однажды в своих скитаньях Летьери встретился с таким же любителем приключений, как он сам, вытянул его из какой-то темной истории, помог ему, пожалел его, полюбил, привез на Гернсей, открыл у него способности к каботажному плаванию и сделал своим компаньоном. То был сынок Равтенов, ставший взрослым.
У Рантена, как и у Летьери, была крепкая шея, широкие и могучие плечи, словно предназначенные для переноски тяжестей, бедра Геркулеса Фарнезского. Одна походка, одна стать были у Летьери и у Рантена, только Рантен был повыше. Всякий, кто видел их со спины, когда они прохаживались рядом по пристани, говорил: "Наверное, братья". Но зато в лице не было ничего общего. У Летьери все как на ладони, у Рантена все под замком: Рантен был воплощением осмотрительности. Он искусно фехтовал, на расстоянии двадцати шагов пулей снимал нагар со свечи, был превосходным кулачным бойцом, декламировал стихи из Генриады, играл на гармонике и разгадывал сны. Он знал наизусть Гробницы Сен-Дени Тренейля. Хвастался дружбой с калькуттским царьком, "которого португальцы называют заморином". Рантен не расставался с записной книжкой, и если бы вы ее перелистали, то среди всякой всячины вам на глаза попалась бы, например, такая заметка: "В стене камеры лионской тюрьмы Сен-Жозеф в трещине спрятан напильник". Рантен говорил с мудрой медлительностью, называл себя сыном кавалера ордена св. Людовика. Белье у него было самое разное, с чужими метками.
Рантен выказывал большую щепетильность в вопросах чести, дрался на поединках и убивал. Его взгляд чем-то напоминал взгляд старой сводни.
Хитрость в оболочке силы - вот весь Рантен.
Мастерской удар его кулака по cabeza de того [Голова мавра - силомер (исп.)] где-то на ярмарке покорил некогда сердце Летьери.
На Гернсее никто и понятия не имел о похождениях Рантена. А похождения эти были разного свойства. Будь у судеб своя костюмерная, судьба Рантена, вероятно, нарядилась бы арлекином. Он знал людей и видывал виды. Не раз ходил в кругосветное плавание. На все руки был мастер. Был он поваром на Мадагаскаре, птицеводом на Суматре, генералом на Гонолулу, сотрудником религиозного журнала на Галапагосских островах, поэтом на Оомравуте, франкмасоном на Гаити. Исполняя эту роль, он произнес в Большой Гоаве надгробную речь, отрывок которой был увековечен местными газетами: "...Прости, прекрасная душа! Ты ныне паришь в лазоревых сводах небес! И там, разумеется, встретишь доброго аббата Леандра Крамо из Малой Гоавы. Скажи ему, что десять лет ты провела в трудах праведных и завершила постройку церкви в Телячьей бухте! Прости, трансцендентальный дух, примерный масон!" Личина масона, как видите, не мешала Рантену носить накладной нос католицизма. Первое примиряло с ним сторонников прогресса, второе - сторонников "порядка". Рантен заявлял, что он чистокровный белый, и терпеть не мог черных, но, конечно, был бы восхищен Сулуком. В Бордо в 1815 году на его рукаве красовалась зеленая повязка. В те времена его роялизм давал о себе знать огромным белым султаном, торчавшим у него на шляпе. Всю жизнь QH отличался тем, что то исчезал, то появлялся, то пропадал бесследно, то вновь выплывал. Это был негодяй, прошедший огонь и воду. Он болтал по-турецки; вместо "гильотинированный" говорил "наколпосаженный". В Триполи он был невольником у одного талеба и турецкому языку научился из-под палки; ему вменялось в обязанность ходить по вечерам от мечети к мечети и читать вслух правоверным изречения из Корана, написанные на деревянных табличках или на верблюжьих лопатках. Вероятно, он и сам перешел в магометанство.