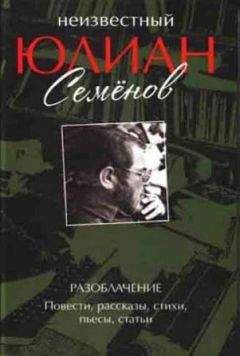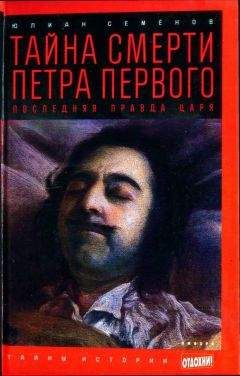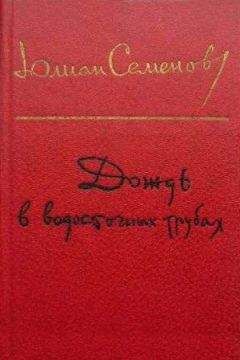Юлиан Семенов - Ненаписанные романы
Именно он, Сталин, - по поручению ЦК - разоблачил эту клевету, именно он доказал всю вздорность и гнусность такого рода обвинений Каменева, который был тогда его ближайшим другом.
То же самое с ним, Сталиным, произошло и после того, как по его требованию расстреляли Бухарина. Он лежал на диване, и не мог уснуть, и отгонял от себя навязчивые картины - близкие, ощутимые, слышимые; их первая встреча с Бухарчиком в Вене, когда тот проводил с ним целые дни, работая в библиотеке, переводил ему немцев, французов и англичан, делал выписки, советовал, как лучше строить "Марксизм и национальный вопрос"... Именно тогда, в ту бессонную ночь, когда все было кончено с последними членами ленинского Политбюро, он услыхал в себе годуновскую страшную фразу, произнесенную кем-то другим, незнакомым: "бухарчики кровавые в глазах"...
И, словно бы защищаясь от нее, этой зловещей, как бы усиленной динамиками фразы, он перекричал ее вопросом, обращенным не к себе, а к кому-то громадному, нависшему над ним давящей тенью: "Каждый из них мог принять бой и умереть молча, но ведь они на это не пошли! А я бы пошел!"
Но он снова вспомнил Троцкого, его указание держать на учете семьи офицеров и принимать их на ответственные посты в том случае, если имеется возможность в случае измены захватить семью.
Он никогда не забывал этих жестоких слов Троцкого, но применил их он, Сталин, в тридцать шестом, когда перед Каменевым поставили дилемму: или два его сына погибнут, или он, Каменев, сыграет ту роль в спектакле процесса против Троцкого, которая будет для него написана...
"А если бы мне предложили такое? - спрашивал себя Сталин много раз. - Я бы отрекся от себя, своего прошлого, своего честного имени - во имя детей?"
Он никогда не отвечал сразу - даже себе; любой ответ должен быть взвешенным и до конца точным.
Нет, сказал он себе, я бы не отрекся от себя и своего дела. Тарас Бульба пожертвовал сыном во имя общего дела, и он был прав; я бы смог повторить его подвиг, ибо человек до той поры человек, пока за ним не захлопнулась дверь камеры; выхода из нее - так или иначе - не будет, такова жестокая логика политической борьбы. Да и потом, почему я должен верить тому, кто заточил меня в темницу? Это - противоестественно. Почему я должен верить, что моих детей пощадят? Если меня не пощадили, чем они, дети мои, семя мое, лучше? Нет я бы повел себя не так, как повели себя Зиновьев! Лева и Бухарчик...
Зиновьева - не любил, с Каменевым подружился еще в начале века на Кавказе, когда тот руководил пропагандой, поэтому и сейчас машинально называл его "Левой"; именно так обращался к нему и в ссылке, и весной семнадцатого, в "Правде", когда вместе редакторствовали, стараясь сдержать Ленина от его резкого поворота к социалистической революции, а уж Бухарчик - в самые трудные годы - был словно брат ему, как же ему иначе назвать Николая, как?!
...Сталин стоял на трибуне безучастно, недвижно, потом вновь поднял руку, прося тишины, но это подлило бензина в огонь, - казалось, перепонки порвутся от грохота оваций.
Тогда, досадливо махнув ладонью, словно бы отгоняя надоедливую муху, Сталин сошел с трибуны и покинул зал заседаний...
...Назавтра, во время Пленума, Сталин попросил слова сразу после того, как избрали членом Президиума, заменившего Политбюро. Сталин ввел молодежь - не зря в завещании Ленин советовал делать ставку на новые кадры; он, Сталин, соратник Ленина, во всем следует ему. Он, Сталин, выполнил, кстати, и другой его завет: никогда, начиная с двадцать четвертого года, не разрешал называть себя "генеральным секретарем ЦК".
...На трибуну он поднялся легко, обвисать не стал, овации пресек резко, словно бы наложив руку на рты кричавших в его честь здравицы.
- Если вы заставили меня вновь поработать в качестве секретаря ЦК, атакующе, без давешних придыханий, сказал он, - то я должен сообщить вам, что в партии оформился и функционирует новый оппозиционный уклон. Правый уклон по своей сути. И рассказать об этом должны товарищи Молотов и Микоян... Вот чем нам надлежит заняться на заседаниях нового Президиума, именно этим, а ничем другим.
15
В Барвихе, на небольшой даче, где, ожидая второго ребенка, жила Юля Хрущева, внучка Никиты Сергеевича, я повстречался с маршалом Тимошенко громадноростым, бритоголовым, в коричневом приталенном костюме и черных лаковых туфлях не менее как сорок пятого размера, наверняка заказных.
После первых же фраз разговор перешел на проблему "культа личности": только-только закончился Двадцать второй съезд.
- Никогда не забуду лица Сталина, - рубяще, командно заговорил Тимошенко, - когда я приехал к нему на Ближнюю дачу на второй день войны: запавшие, небритые щеки, глаза тусклые, хмельные... Он сидел у обеденного стола, словно парализованный, повторяя. "Мы потеряли все, что нам оставил товарищ Ленин, нет нам прощенья..." Таким я его никогда не видел, а знакомы-то с восемнадцатого, добрых четверть века... Хотя, помню, видел его однажды хмельным в двадцать седьмом году, в день десятилетия Рабоче-Крестьянской Красной Армии... И случилось это при любопытнейших обстоятельствах... Я тогда командовал войсками в Смоленске, провел торжественное заседание, только-только перешли в банкетный зал, как меня вызывают на прямой провод, звонит Лев Захарович Мехлис, помощник Сталина:
- Срочно выезжай на аэродром, бери самолет и жми в Москву! Я отправляю машину в Тушино.
Через два с половиной часа я подкатил на "паккарде" к Центральному Дому Красной Армии - там гуляли годовщину РККА, не поминая, ясно, ни Троцкого (а ведь как-никак первый нарком обороны республики), ни Вацетиса, которого именно Троцкий протащил на пост Главкома: многие были против, мол, из царского генерального штаба, золотопогонник, но Лев Давыдович настоял на своем, крутой был мужик, Сталин у него, честно говоря, много взял, не во внешнем, конечно, облике, а в умении пробивать свое... Шапошникова Бориса Михайловича, полковника царской разведки, тоже Троцкий в РККА привел наперекор всем, но потом в поддержке отказал: тот уж больно поляков ненавидел, "католические иезуиты, ляхи", даже статью против них бабахнул в двадцатом, за что Троцкий журнал прикрыл, а Шапошникова - "за шовинизм" - бросил, как говорили, на низовку, слава богу, еще не шлепнул сгоряча, он это тоже умел... Потом, когда Троцкого турнули, Шапошников снова поднялся, Сталин его поддержал, был у меня начальником генштаба - единственный беспартийный на таком посту... Думаю, кстати, Сталин его не без умысла ко мне приставил... Да... Прибыл, значит, я, вошел в банкетный зал, а там и Бубнов, и Блюхер, и Егоров, и Якир с Уборевичем, Позерн, Буденный, Лашевич, Раскольников, Примаков, Штерн, Подвойский, Крыленко, Корк, Эйдеман, Тухачевский, ясное дело, ну и Ворошилов со Сталиным... Все, гляжу, хоть и под парами, разгоряченные, но какие-то напряженные, нахохлившиеся... Сталин, пожав мне руку, говорит: "Мужик, ну-ка, покажи себя..." Он меня еще с гражданской называл "мужиком", любил рослых, а особенно тех, у кого в семье был кто из духовенства... Я его спрашиваю, что надо сделать. А он трубку раскурил, - лицо жесткое, глаза потухшие, хмельные, - пыхнул дымком и говорит: "Я предложил провести соревнование по борьбе - кто из наших командиров самый крепкий... Вот Тухачевский всех и положил на лопатки... Сможешь с ним побороться? Но так, чтоб его непременно одолеть?" Я, конечно, ответил, что будет выполнено. "Ну, иди, вызови его на поединок". Я и пошел. А Тухачевский крепок был, не так высок, как я, но плечи налитые, гири качал, как только на скрипке своей мог играть, ума не приложу, она при нем крохотной казалась, хрупенькой, вот-вот поломает... Ну, я к нему по форме, он ведь старше меня был по званию, командарм, я только комдив, так, мол, и так, вызываю на турнир... Тухачевский посмотрел на Сталина, усмехнулся чему-то, головой покачал и ответил: "Ну, давайте, попробуем". Схватились мы с ним посредине залы; крепок командарм, жмет, аж дух захватывает, а поскольку я выше его, мне не с руки его ломать, захват приходится на плечи, а они у него, как прямо, понимаете, стальные... Вертелись мы с ним, вертелись, а вдруг я глаза Сталина увидел - как щелочки, ей-богу, а лицо недвижное, будто стоит на весенней тяге, так весь и замер... Как я эти его глаза увидел, так отчего-то ощутил испуг, а он порою придает человеку пребо-ольшую, отчаянную силу! Ухватил я Тухачевского за талию и вскинул вровень с собой, а когда борец ног не чувствует, ему конец, потому как опоры нету, будто фронт без тыла... Ладно... Держу я его на весу, жму, что есть сил, а он решил ухватить меня за шею, чтоб голову скрутить, - без нее тоже не с руки бороться... Но я этот миг как бы заранее почувствовал, взбросил командарма еще чуть выше и что было сил отшвырнул от себя. Но - не рассчитал: он спиною ударился о радиатор отопления и так, видно, неловко, что у него даже кровь со рта пошла... А Сталин зааплодировал мне, заметив: "Молодец, мужик! Положил забияку, будет знать, как своей силой похваляться..." Чокнулся со мной, выпил, повернулся и пошел к выходу, ни с кем не попрощавшись...