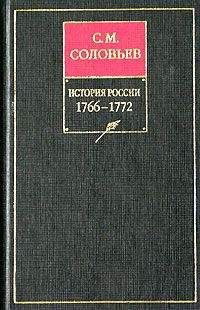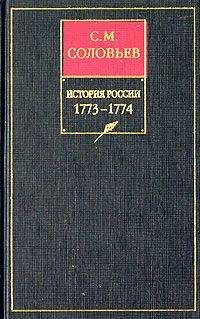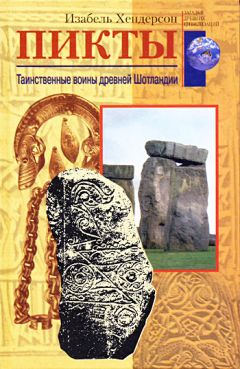Сергей Соловьев - История России с древнейших времен. Том 26. Царствование императрицы Екатерины II Алексеевны. 1764–1765 гг.
Осенью попытки нового польского короля приступить к преобразованиям сильно встревожили берлинский двор, тем более что из Петербурга и Варшавы Фридрих II получил донесения, что русский двор смотрит на эти попытки хладнокровно и даже с поблажкою. Сольмс доносил из Петербурга, что польский посланник граф Ржевуский представил Панину мемуар, где просил согласия императрицы на ограничение злоупотребления liberum veto в смысле liberum rumpo. Панин готов был уступить, представляя, что Польша, избавленная от сеймового безнарядья, поправивши свою торговлю, юстицию и полицию, может быть полезною союзницею и заменить Австрию относительно турок. Но Сольмс получил из Берлина приказ: «Сохрани вас Бог помогать предложению Ржевуского!»
Бенуа из Варшавы прислал тоже тревожные известия, что Россия смотрит на польские преобразования слишком легко. Репнин начинает очень вилять насчет этого дела; и тогда только начал сериозно на него смотреть, когда ему Бенуа внушил, как сериозно смотрит на него король прусский. Репнин стал говорить об этом Станиславу-Августу, тот сильно огорчился и начал говорить с такою горячностию, какой Репнин никогда прежде не замечал в нем: «Как! Это наши друзья, наши союзники будут препятствовать тому, чтобы мы вышли из нашего застоя!» «Поляки, – писал Бенуа, – будут содействовать таким образом своей собственной погибели и заставят своих соседей раздробить некогда Польшу, чтобы посредством формы английского правления, у них установленной, они не сделались слишком страшны при своей обширной государственной области».
Фридрих написал Екатерине (30 октября): «Многие из польских вельмож желают уничтожить liberum veto и заменить его большинством голосов. Это намерение очень важно для всех соседей Польши. Согласен, что нам нечего беспокоиться при короле Станиславе, но после него? Если ваше величество согласитесь на эту перемену, то можете раскаяться и Польша может сделаться государством, опасным для своих соседей, тогда как, поддерживая старые законы государства, которые вы гарантировали, у вас всегда будет средство производить перемены, когда вы найдете это нужным. Чтоб воспрепятствовать полякам предаваться их первому энтузиазму, всего лучше оставить у них русские войска до окончания сейма».
Панин по словам Сольмса, все твердил, что было бы слишком жестоко мешать полякам выйти из варварства; но на Екатерину письмо Фридриха произвело сильное впечатление, и она отказала в согласии на преобразование. «Панин нахмурился, – писал Сольмс, – но скрыл свою досаду: ему хотелось приобресть славу восстановителя Польши».
Но был еще третий сосед Польши, который также сильно интересовался всем, что в ней происходило.
29 января австрийский посланник князь Лобкович заявил вице-канцлеру, что императрица-королева желает знать, кому с русской стороны предпочтительно прочится корона польская, чтоб об этом заблаговременно можно было между собою согласиться; что сообщение об этом было обещано, но обещание до сих пор не исполнено, а сделанная в Варшаве русским и прусским министрами декларация противна прежним уверениям, что республике будет предоставлена свобода избрания: исключение иностранных принцев никак не вяжется с этими уверениями. Если Россия для подкрепления своего кандидата прежде избрания введет свои войска в Польшу, в таком случае венский двор по своему значению и близкому соседству не может равнодушно смотреть, чтоб какая-нибудь посторонняя держава посадила в Польше короля против вольного избрания, и потому принуждена будет вмешаться в дело. В случае вольного избрания на польский престол саксонского принца намерена ли императрица противиться этому силою? На конференции 3 февраля Лобкович опять спрашивал, не будет ли императрица противиться избранию саксонского принца, ибо хотя венский двор и желает вольного избрания этого принца, но не намерен подкреплять его силою в надежде, что императрица также не будет подкреплять силою своего кандидата, что для обуздания беспокойных голов в Польше было бы полезно, когда б оба императорские двора заблаговременно согласились поддерживать вольное избрание. 9 февраля Лобкович наведывался о резолюции императрицы на его предложение, но получил от вице-канцлера в ответ, что резолюции еще нет, да дело и не требует поспешности.
29 марта вице-канцлер сообщил всем иностранным министрам записку, в которой русский двор объявлял, что вследствие больших беспорядков в Польше и насилий коронного гетмана графа Браницкого, также виленского воеводы князя Радзивилла и сообщников их императрица, может быть, против своего желания найдется вынужденною ввести часть своих войск в земли республики для защиты благонамеренных патриотов и сохранения спокойствия в таком близком соседстве. Лобкович заметил, что он ни о каких насилиях гетмана Браницкого не знает, что же касается до князя Радзивилла, то он не так виноват, как об нем говорится в русской записке; вообще ж ему, послу, очень прискорбно, что Россия в польских делах не ограничивается одними желаниями, и он, зная миролюбивые расположения своего двора, боится нарушения драгоценного покоя. Вице-канцлер отвечал, что насчет насилий Браницкого и сумасбродных поступков Радзивилла не может быть ни малейшего сомнения; что же касается намерений русского двора, то они остаются прежние и заключаются в защите вольности и законов польских и в недопущении, чтоб в Польше как-нибудь возбуждены были внутренние неустройства; если, следуя этим правилам, Россия будет принуждена употребить и войско, то сделает она это, конечно, не по охоте, а будучи побуждена существеннейшими своими интересами, которые перевешивают интересы всех других дворов.
На сеймике в Грауденце (в прусской провинции) явилось войско Браницкого, чтоб дать торжество свое стороне, но этому помешало русское войско, охранявшее там магазины. Партия Чарторыйских оправдывала поступок русского войска; противная партия кричала против вмешательства иностранной силы. 5 апреля Лобкович жаловался на это вмешательство: он говорил, что протест поляков против него ничем оспорен быть не может и это присутствие русского войска, разумеется, нарушает в означенном месте польскую вольность. Вице-канцлер возражал, что русские войска, выступившие уже из Грауденца, принуждены были возвратиться туда для защиты магазинов, могших потерпеть среди народного беспорядка; Лобкович основывается на протесте одной стороны, но надобно, чтоб он прочел манифест и другой, подписанный 270 лицами, тогда как протест подписан только 220; что корпус генерал-майора Хомутова не нарочно приведен был в Грауденц, а находился там уже несколько лет; что когда русская армия действовала в пользу императрицы-королевы, то венский двор не жаловался на нарушение польской вольности от присутствия русского войска. Лобкович отвечал, что хотя он и не видал манифеста другой партии, однако сомневается, чтоб он был так же основателен, как протест первой, что не его дело говорить о прошедшем, а главное, он опасается, чтоб русские магазины не появились в таких местах, где их прежде совсем не было. На докладе об этой конференции Екатерина написала: «При сочинении ответа князю Лобковичу не худо дать им приметить, что здесь весьма странно кажется, что при всяком случае нас в допрос ведут».
В Вене Кауниц точно так же говорил князю Голицыну, что австрийскому двору вовсе неизвестно о выставляемых русским двором насильственных поступках Браницкого и других поляков, но известно о вступлении в Польшу значительного корпуса русских войск. «Намерение мое было, – писал Голицын, – посредством разговора с князем Кауницом изведать мысли здешнего двора по польским делам, но нимало не оказал он к тому податливости. Я от здешнего министерства не ожидаю теперь никакой откровенности, когда оной по сие время не оказалось».
Всего страннее было это раздражающее «ведение в допрос» при твердом решении венского двора ни под каким видом не начинать войны из-за Польши. Мария-Терезия говорила по поводу этой страны, что дрожит при малейшей искре от страха, что из искры произойдет пламя. Относительно претензии принца Ксаверия саксонского на польский престол Мария-Терезия сказала: «При настоящем положении моих финансов я могу дать ему только 100000 гульденов – плохая помощь! О посылке же войска в Польшу я не смею и думать, потому что это может вовлечь меня в новую войну, тогда как я страдаю еще от ран, нанесенных последнею войною».
Точно так же странно должно было казаться в Петербурге и поведение Франции, которая при всяком случае «вела в допрос» без решимости противодействовать видам России. Людовик XV в начале года писал: «Наши последние письма из Вены ясно говорят, что тамошний двор не даст ни войска, ни денег принцу Ксаверию, но обещает ему все добрые услуги и уговаривает его представиться кандидатом (на польский престол). При таких обстоятельствах все деньги, которые мы дадим, будут потеряны, а у нас нет столько денег, чтоб их бросать. Думаю, что Испания взглянет на дело точно так же».