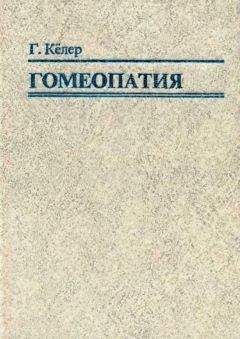Коллектив Авторов - Литература конца XIX – начала XX века
При активном содействии С. Городецкого, И. Ясинского Клюев и Есенин включаются в Петербурге в деятельность литературно-художественного общества «Краса» (1915), а затем «Страда» (1915–1917), ставивших своей целью способствовать выявлению талантов из народа, мечтавших о «единении интеллигенции и народа на путях усвоения ими „истинно-христианских идей“».[1032] Основную заслугу общества И. Ясинский видел впоследствии в том, что оно выдвинуло Клюева, «с его заонежскими величаво русскими, ядреными поэтическими волхвованиями», и способствовало развертыванию таланта Есенина. – «этого гениального юноши».[1033]
Основополагающее влияние Клюева в этот ранний период восхождения новокрестьянской плеяды было бесспорным. Исповедальную переписку с ним ведут Ширяевец и Есенин, который в 1917 г. писал об этом времени:
Тогда в веселом шуме
Игривых дум и сил
Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил.[1034]
Позже Орешин отстаивал олонецкого поэта от нападок имажинистов:
Вам Клюев противен до боли,
По мне – он превыше вас,
И песни его о русском поле
Запоются еще не раз![1035]
Безмерно ценил своего младшего собрата Есенина и Клюев. Их связывали сложные личные взаимоотношения.
Свою поэтическую родословную новокрестьянские поэты предпочитали вести по семейной линии, указывая то на мать, то на бабку, то на деда, видя в них носителей крестьянского мировоззрения, как бы непосредственно приобщавших их к потаенным глубинам народных «певчих заветов». Клюев вспоминает о «сопели» своего деда, которая «жалкует» в его песнях, «аукает» в его сердце, «снах и созвучиях». Огромное влияние на духовное воспитание поэта оказала и мать, «былинница» и «песенница», памяти которой он посвящает «Избяные песни» (1914–1916). С. Клычков тоже пишет, что «языком обязан лесной бабке Авдотье, речистой матке Фекле Алексеевне…».[1036]
Осознание глубинного родства с народным творческим духом способствовало тому, что именно в «крестьянском» облике создаваемых ими «песен» поэты видели свое преимущество перед поэзией интеллигентской, «цивилизованной». Вместо горемычных жалоб, свойственных их предшественникам, поэтам-самоучкам, у них появляется мотив веры в свое социальное превосходство. Клюеву не льстит, как писал он в одном из писем, что его «нищие песни» читают скучающие атласные дамы, а господа с вычищенными ногтями и безукоризненными проборами пишут (о них, – А. М.) захлебывающиеся статьи в газетах».[1037] С иронией относился к салонной шумихе по поводу его «деревенских» стихов и обаятельной внешности Есенин. В противовес кичливому дворянскому родословию Клюев извлекает из «глубины веков» собственную геральдику: «Родовое древо мое замглено коренем во временах царя Алексея, закудрявлено ветвием в предивных строгановских письмах…»;[1038] «Отцы мои за древлее православие в книге Виноград Российский два века поминаются».[1039]
Доказательством органического родства новокрестьянских поэтов с трудовым народом является факт их участия в социальном протесте. О социальных взглядах Клычкова в годы первой русской революции один из современников пишет: «Народ, труд, творчество, равенство, свобода – были для него понятиями одного ряда. К социалистической революции он относился сочувственно, как к историческому правежу, как к великому пролому в народное будущее».[1040] За участие в революционном движении в том же 1905 г. Ширяевца уволили с работы, и он вынужден был покинуть родную Волгу. За Есениным как за неблагонадежным в 1913 г. устанавливалась в Москве полицейская слежка. Наиболее активные формы социального протеста были проявлены молодым Клюевым. В 1905 г. он стал пропагандистом революционно настроенного Бюро Содействия Крестьянскому Союзу и вскоре был привлечен по делу распространения революционных прокламаций. В 1906 г. Клюев агитирует крестьян не платить подати, не повиноваться начальству, и это влечет за собой шестимесячное заключение в тюрьму. При обыске у него конфискуют «Капитал» Маркса и «собственноручные» сочинения «возмутительного содержания».[1041] После отбывания срока (в августе 1906 г.) Клюев поддерживает контакт с большевиками, ратует за помощь политическим ссыльным и заключенным.[1042]
Известны также публицистические выступления Клюева в защиту крестьянства. В 1908 г. он пытается через Блока передать В. С. Миролюбову, бывшему редактору «Журнала для всех» (1898–1906), свою статью «С родного берега», свидетельствующую о неистребимой мятежности духа в недрах крестьянских масс.[1043] Подчеркнув тяжелое социальное и материальное положение олонецкой деревни, автор обращает внимание на независимый характер северного крестьянина, который осмеливается выдвигать свою «крестьянскую программу»: «…чтобы не было податей и начальства, чтобы съестные продукты были наши». В крестьянине Клюев видит не только могущественную силу, но и высший нравственный авторитет, ибо «его весы духовные, своего рода чистилище, где все ложное умирает, все же справедливое становится бессмертным». И потому неизбежно возмездие всем его «затюремщикам».[1044] В том же году в «Нашем журнале» публикуется анонимно статья Клюева «В черные дни. (Из письма крестьянина)», стоившая журналу существования. Возражая тем, кто, подобно публицисту М. А. Энгельгардту, утверждал, что народ «остался равнодушным к крестным жертвам революционной интеллигенции», Клюев доказывает «врожденную революционность глубин крестьянства».[1045] В обеих статьях ощутимо стремление начинающего поэта говорить не просто о крестьянстве, «извивы <…> духа» которого ему хорошо знакомы, но и от имени самого крестьянства.
И все-таки мотив социального протеста не стал доминирующим в творчестве новокрестьянских поэтов. Начисто отсутствует он в лирике Клычкова и почти не ощутим в поэзии раннего Есенина. У Ширяевца он крайне размыт романтической «волжской» струей. Наиболее реалистично этот мотив проступает только в «песнях» Орешина с их бедняцкой тематикой.
Чрезвычайно сложно развивался и причудливо трансформировался мотив протеста в поэзии Клюева. Несомненно революционны стихи 1905–1906 гг., однако в первый сборник поэта они не вошли. И тем не менее весь «Сосен перезвон» проникнут духом трагических событий первой русской революции; многое в нем навеяно памятью о казненных, изгнанных, осужденных. Здесь даже «Сосны шепчут про мрак и тюрьму, Про мерцание звезд за решеткой».
Мысль об искуплении страданий и мук героически, но безрезультатно боровшегося за свободу народа не покидает поэта и в следующем сборнике («Братские песни»). Опираясь на евангельскую идею о приобщении к вечной радости и бессмертию только через муки и смерть, Клюев уподобляет революционеров первым христианам – мученикам Колизея. Поэтической формой, воплощающей эту мысль в образы, становятся «песни» раскольничьих сект, которые также могли противопоставить своим преследователям только несгибаемую твердость духа и силу убеждений. В «Вечерней песне» свою обреченность в мире гонений и зла герои воспринимают как будущую нетленность в идеальном мире добра и справедливости, где у них будут
За спиной шесть крылий легковейных,
На кудрях венцы из звезд вечерних.[1046]
Обращение Клюева к «сектантской» поэтике не случайно. Всеми, кто занимался исследованиями русского религиозного раскола, неизменно подчеркивался факт естественного перехода социального протеста в глубинных толщах народных масс в протест против казенной церкви, социальных исканий в искания религиозно-утопического характера. А. С. Пругавин писал о ярко демократическом характере раскола, становящегося «религией закрепощенной и обездоленной массы».[1047] Исследуя движение так называемых «неплательщиков», он подчеркивал, что «они открыто называли царя антихристом, а чиновников, всех тех, „кто одел светлые пуговицы“, – слугами антихриста, посланниками его».[1048] Этот, казалось бы, социально-религиозный парадокс он объяснял тем, что «более сознательная часть народа не отделяет религии от жизни, так как в глазах этих людей религия является и моралью, и философией, и этикой, и социологией».[1049] Хорошо изучивший духоборческое движение в России большевик Вл. Бонч-Бруевич ставил знак тождества между «мистическими» и «свободномыслящими» сектами России.
Причисляя Клюева именно к такому типу народных правдоискателей, В. Г. Базанов справедливо пишет о его особенной религиозности, «по-крестьянски» сочетающей в себе «патриархальные пережитки и ненависть к официальному православию».[1050] Через всю многовековую толщу русского религиозного движения проходят имена наиболее знаменитых расколоучителей. Тяготение Клюева к духовному авторитету одного из них, к протопопу Аввакуму, несомненно. В. Г. Базанов прослеживает разделенную веками общность этих двух самобытных деятелей русской культуры, говоря, что оба они, относясь резко отрицательно к официальной церкви, вдохновенно «выступали против разрушения тех эстетических и духовных ценностей, которые были созданы в эпоху Древней Руси самим народом».[1051] Этим же определяется и некоторое сходство их поэтических систем, опирающихся на «своеобразное фольклорное переосмысление христианской символики и языка древнерусской литературы».[1052] Характерна ранняя биография Клюева. Происхождением (его мать была из раскольнической семьи) он принадлежал к людям «крепкого морального закала» (П. Сакулин). В шестнадцать лет, надев на себя вериги, он уходит «спасаться» в Соловки, затем подвизается в роли псалмопевца Давида в раскольничьем «Корабле», где сочиняет пользующиеся большим успехом у верующих духовные песни и молитвы. Позже Клюев назовет протопопа Аввакума своим «прадедом». Героический и трагический образ его займет свое место в напряженно насыщенной историческими ассоциациями клюевской лирике 1920-х гг. («Львиный хлеб», 1922). Традиции старообрядческой культуры наложили определенный отпечаток и на детские годы Есенина, воспитывавшегося в доме деда-раскольника.