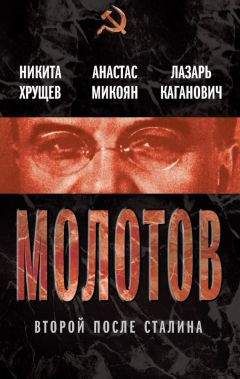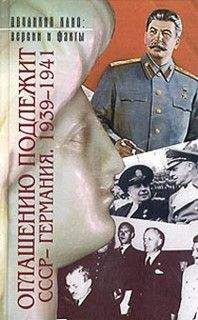Габриэль Городецкий - Роковой самообман
Неудивительно, что германский посол в Бухаресте предупреждал Берлин: настойчивость Советов подтверждает, что они «собираются вести не политику разумного взаимопонимания с Германией на Дунае и в Черном море, а, скорее, политику шантажа». В преддверии визита Молотова в Берлин стало ясно, что русские создали в конечном итоге «скорее политические, чем экономические трудности» для Германии на Балканах{269}. Как сообщал германский военный атташе, германская делегация на Дунайской конференции была «недовольна советскими предложениями», отвергающими позицию Германии.
Глава 3
Курс на конфронтацию
«Drang nach Osten»{270}: первоначальные планы
Гитлеровское решение о нападении на Советский Союз представляет собой загадку. Трудно обнаружить прямую линию, ведущую от его зарока в «Майн Кампф» «положить конец беспрестанному стремлению немцев на юг и запад Европы и обратить пристальный взгляд на страны востока» к действительному решению приступить к операции «Барбаросса»{271}. Общепринятая точка зрения обходит эту трудность при помощи заявления, что Гитлер последовательно ставил себе целью разгромить Москву, «как штаб-квартиру "еврейско-большевистского мирового заговора"»{272}. Другие полагают, что логика и идея «хранителя Континента» не должны затмевать факта существования в гитлеровской военной политике симбиоза расчета и догмы, стратегии и идеологии, внешней и расовой политики{273}. Подобные утверждения, однако, мало помогают нам понять действительный процесс формирования политики в контексте данного периода и ведут к детерминистскому объяснению хода Второй мировой войны. Неверно было бы считать, что во внешней политике Гитлера отсутствовала идеологическая составляющая, но она подчинялась неизменным геополитическим соображениям и меняющимся политическим обстоятельствам. Задача историков — установить иерархию.
Большинство историков избирают удобный половинчатый подход и снимают спорные моменты, настаивая на том, что, «неотступно преследуя свои цели, Гитлер был вынужден адаптировать свои методы к новым обстоятельствам»{274}. Другие, как Эберхард Еккель{275}, заявляют, будто в рамках своей идеологической конструкции Гитлер серьезно рассматривал как альтернативу получение контроля над континентом. Тем не менее, не говоря о попытках психоанализа, подпорченных предвзятыми идеями, историкам не удалось убедительно доказать, что Гитлер начиная с сентября 1939 г. систематически направлял ход войны к исполнению своей идеологической мечты — созданию благоприятных условий для завоевания России.
Слишком очевиден факт, что война с Англией на западе и последующий поворот к Юго-Восточной Европе и Средиземному морю противоречили идейным устремлениям Гитлера. Он не мог игнорировать новые нужды Германии, определяемые ходом событий, даже если это сильно уводило в сторону от генерального плана, набросанного в «Майн Кампф». То обстоятельство, что крестовый поход на большевизм и уничтожение евреев придали революционный смысл войне в 1941 г., само по себе недостаточно для доказательства стойкой приверженности догме. Идейные убеждения вышли на первый план после того, как было принято решение по «Барбароссе», и в значительной степени отвратили Гитлера от более рациональной стратегической политики, которая до тех пор характеризовала его военное руководство.
Трудность заключается в том, что как в случае со Сталиным, так и в случае с Гитлером отсутствуют реальные свидетельства связи между идеологическим кредо режима и его военными действиями. В исследованиях по международной политике постоянные сравнения этих двоих и доминирование тоталитарной модели еще больше запутывают картину{276}. Гитлер был авантюристом, склонным к крайнему экспансионизму и совершенно пренебрегавшим вопросами международного права. Сталин, напротив, как мы видели, скинув идеологическую мантию, старался проводить в высшей степени расчетливую и осторожную политику, ориентированную главным образом на безопасность. Он также разделял общепринятое уважение к средствам внешней политики и, по-видимому, даже переоценивал возможности дипломатии{277}. Объединяло Сталина и Гитлера желание возместить, как они это называли, «версальские обиды»; у обоих были исторические цели, в случае с Гитлером — вернуться к Фридриху Барбароссе и Бисмарку, в случае со Сталиным — к наследию эпохи царизма. Явной точкой расхождения может послужить следующее: тогда как Сталина война застигла в разгар длительного процесса подчинения идейных устремлений трезвой, прагматичной политике, для Гитлера она была вершиной его идеологических свершений. Поэтому взаимоотношения идеологии и Realpolitik в Германии оказались более резко выраженными и напряженными.
В самом деле сомнительно, чтобы решение Гитлера естественно вытекало из его триумфальной победы над Францией, будучи предопределено идеологическими установками «Майн Кампф». Показательно отсутствие всякой идейной мотивировки оперативного планирования вторжения. Лишь в одной-единственной директиве по политической подготовке вермахта, изданной генералом Браухичем по его собственной инициативе в середине октября, сделана попытка совместить оперативные аспекты и идеологию{278}. Не то чтобы Гитлер был поколеблен в своих идейных убеждениях, однако в первую очередь он реагировал на конкретное изменение обстоятельств. Таковое, главным образом, заключалось в возникновении перед ним двух непредвиденных препятствий, которые он мысленно связывал друг с другом и относил на счет советской политики: наглый отказ Черчилля в ответ на его мирные предложения и посягательства Сталина на Балканы. Непризнание Черчиллем нового баланса сил казалось ему непостижимым, если только тот не «возлагал свои надежды на Россию и Америку». Поэтому существовал очевидный соблазн выйти из тупика, силой «сокрушив» Советский Союз и сделав таким образом Германию «хозяйкой Европы и Балкан»{279}.
Конкретные истоки операции «Барбаросса» неясны, но тот факт, что идея зародилась в двух или трех местах независимо друг от друга. по-видимому, показывает отсутствие общей установки сверху. Тем не менее известно, что, как только маршал Петэн поставил свою подпись на акте о капитуляции в Компьене, Гальдер приказал начать оперативную разработку войны на востоке{280}. Сам Гитлер представил подобный план своему Генеральному штабу на чрезвычайном совещании в Берхтесгадене 31 июля 1940 г. Выбор времени для операции представляется проблематичным, так как совпадает с разработкой проектов вторжения в Англию. Но и то и другое переплеталось в сознании Гитлера, подозревавшего, что непреклонность англичан проистекает от их надежд на открытие нового фронта на Балканах в сговоре с русскими. Поначалу Гитлер рассчитывал вбить клин между Англией и Советским Союзом, обнародовав документы Высшего союзного совета, захваченные немцами, в которых раскрывались планы Союзников по бомбардировке Батуми и Баку{281}. Как только ему сообщили о предложении Криппса Сталину захватить гегемонию на Балканах{282}, Гитлер тотчас встревожился, как бы русские не «договорились с Болгарией» и не двинулись «по своему старому историческому пути на Византию, Дарданеллы, Константинополь»{283}. Этот навязчивый страх возрос, когда Черчилль отклонил мирные предложения, сделанные публично в рейхстаге 19 июля{284}. Несмотря на усилия Сталина преуменьшить значение предложений Криппса, во множестве донесений из различных балканских столиц высказывались предположения, будто на деле Сталин и Криппс достигли взаимопонимания в отношении общей цели — нажать на Турцию, чтобы та изменила режим Проливов{285}.
Любопытно, что Наполеон, когда в 1811 г. начали распространяться слухи о войне, уверял своего посла в Москве: «Вы совсем как русские: не видите ничего кроме угроз, ничего кроме войны, тогда как это всего лишь передислокация войск, необходимая, чтобы заставить Англию просить мира прежде, чем пройдут шесть месяцев»{286}. Дневники Геббельса свидетельствуют, что Гитлер использовал те же аргументы в случаях с Францией и Грецией. Несомненно, идейно вдохновляемая война с Советским Союзом всегда манила Гитлера, и вполне возможно, что в начале лета 1940 г. само время повелело ему приступить к разработке такой кампании, однако устная директива в конце июля содержала не более чем наметки, сводящиеся к общему определение целей, а вовсе не конкретный план операции{287}.