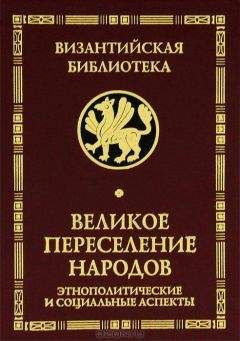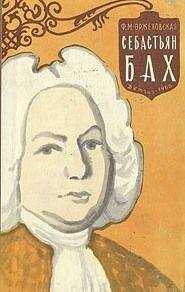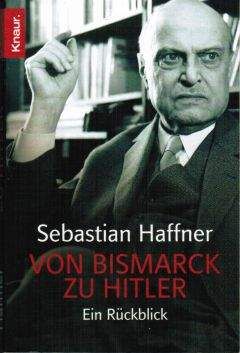Себастьян Хаффнер - Пруссия без легенд
Разумеется, с идеями Пруссия была как раз в это время — время её становления — связана теснее, чем прочие, более старые государства, в которых еще звучали отзвуки средневековья и эпохи борьбы религий. Пруссия была современной, самым современным государством эпохи просвещения, можно прямо-таки с цинизмом Фридриха сказать: Пруссия в 18-м столетии была модным товаром; а модные товары быстро устаревают, когда вкусы меняются. В следующей главе мы увидим, сколь напряженно при преемнике Фридриха Вильгельма II Пруссия пыталась идти в ногу со временем, оставаться "на высоте", и еще мы увидим, как большая работа по проведению реформ, предпринятая с этой целью, не удалась, несмотря на все усилия. Но в 1790 и в 1795 годах обо всем этом еще не было речи. Это время во всей Европе, кроме Франции, было еще временем рококо, периодом последнего высшего расцвета эпохи просвещения, государственного благоразумия и монархического абсолютизма, и Пруссия всецело была творением этого духа времени, его наиболее совершенным воплощением: не национальное, а рациональное государство. В этом, возможно, и была его слабость, но в этом в течение столетия была и его сила.
В начале этой главы — возможно читатель помнит об этом — мы кратко говорили об особенной эластичности Пруссии, о резиноподобной способности к растяжению, которая в течение всего столетия сослужила ей добрую службу; и мы обещали в заключение еще раз вернуться к этому по поводу раздела Польши. Пришло время исполнить обещание.
История успехов Пруссии в 18-м веке — а как раз сенсационной историей успехов она бесспорно и была — основывалась не на "гении" Фридриха Великого, не на благосклонности прочих обстоятельств и их удачном использовании, и не только на удачах оружия и военных способностях, а прежде всего именно на том, что Пруссия в течение этого столетия столь полно соответствовала духу времени. Это государство разума вписывалось в эпоху разума как влитое. Ничто, кроме как государство и всецело государство, без народа, без корней, абстрактная, чистая система управления, правосудия и военного аппарата, сконструированная в духе Просвещения — вот что позволило Пруссии почти все что угодно перемещать и переносить, и так сказать, "нахлобучивать" на себя любые народы, племена и области. Вот ходячие стихи того времени:
"Никто же не становится пруссаком насильно.
А если уж стал им — то благодарит Бога" [45].
Потому что это прусское рациональное государство — в котором позже Гегель возможно преувеличенно, но не совсем безосновательно видел наиболее совершенное выражение государственной идеи, идеи чистой государственности, какую когда-либо произвела история — имело в себе не только нечто жесткое, металлическое, бездушно-механическое. Разумеется, все это в нем было, но были в нем также и сдержанная либеральность, законность и толерантность, которые для его подданных были не менее благотворными, хотя они, как мы видели в предыдущей главе, основывались на некотором равнодушии. В Пруссии больше не сжигали ведьм, что в других местах было вообще-то еще обычным делом, не было насильственных обращений в веру и религиозных преследований, каждый мог думать и писать, что ему угодно, для всех действовали одни и те же законы. Государство было свободным от предрассудков, здравомыслящим, практичным и справедливым. До тех пор, пока государству отдавали то, что ему было положено, оно со своей стороны давало "каждому свое".
Для миллионов поляков, к примеру, которых присоединила к себе Пруссия между 1772 и 1795 годами, жизнь в Пруссии была не хуже, чем прежде; скорее лучше. Никаких помыслов о "германизации", которая гораздо позже, во время Бисмарка и еще более после Бисмарка, стала в Германской Империи достойной сожаления практикой. И если бы кто-нибудь в 18-м веке предложил бы пруссаку обращаться с поляками так же, как это делал в 20-м веке Гитлер (а затем, в качестве ответной меры — поляки с попавшими к ним под управление немцами), то этот пруссак из 18-го века вытаращил бы на него глаза, как на сумасшедшего. Со ставшими подданными Пруссии поляками не обращались ни как с людьми низшей расы, ни отталкивали их как чужеродное тело. Им ни в малейшей степени не препятствовали и не делали затруднений в сохранении своего языка, обычаев и религии. Напротив, они получали например больше народных школ, чем когда-либо прежде, с учителями, которые разумеется должны были говорить на польском языке. На место польского крепостного права заступила более мягкая прусская форма крепостного права, и все поляки пользовались благами вступившего в силу в 1794 году Всеобщего Прусского Земельного Права, правовыми гарантиями, которые они умели ценить, как жители рейнских земель, которые десятью годами позже стали пользоваться благами Кода Наполеона. Вообще же интересно, что Пруссия в кодификации гражданских прав, в первом большом шаге к воплощению помыслов о правовом государстве, все-таки была на десять лет впереди Франции. Что же касается польской знати, то для них были открыты должности прусских чиновников и офицеров, и многие польские аристократы, Радзивиллы, Радолины, Гуттен-Чапские и Подбельские на протяжении поколений стали не только лояльными, но и значительными пруссаками. Один из них позже, после 1871 года, скорбно объяснял, что поляки в любой момент могли стать пруссаками; немцами же никогда.
Эта абстрактная государственность, которая не связана ни с каким отдельным народом или племенем, а была, так сказать, употребительна для любого, и была сильной стороной Пруссии. Но она могла также, что следует теперь подчеркнуть, стать и слабостью. Она делала государство почти безгранично способным к растяжению — не только способным к завоеваниям, но и также способным действительно вобрать в себя завоеванных и создать из этого новые сильные стороны. Но она делала это государство для его подданных также неким образом излишним, когда оно единожды не справлялось с чем-либо. Было не только приемлемо, но и во многих смыслах приятно стать подданным Пруссии. Так много порядка, гарантий правосудия и свободы совести не везде можно было найти; это давало также определенную гордость. Но быть пруссаком не было неизбежностью, необходимостью; по природе люди не были пруссаками, как они были французами, англичанами, немцами или же баварцами и саксонцами. Прусское гражданство было более чем любое другое заменяемо, и когда прусское государство над любым населением, не особенно его беспокоя, могло раскинуть свою власть, как походную палатку, то эту палатку можно было и обратно свернуть, да так, что население не воспринимало это в качестве катастрофы. Пруссия не была организмом со способностью к самоизлечению, а скорее чудесно сконструированной государственной машиной; но именно машиной: сломается маховик, и машина остановится. При Фридрихе Вильгельме III, преемнике Фридриха Вильгельма II, маховик вышел из строя и машина остановилась. Да, пару лет казалось, что ничто более не заставит её крутиться.
И все же Пруссия выдержала своё испытание на прочность. Было ли в конце это государство все же несколько иным, чем машина? Или же смогло оно по крайней мере стать немного другим?
Глава 4. Испытание на прочность
Однажды — во время Семилетней войны — Пруссия уже подвергалась испытанию на прочность. Если бы эта война была проиграна, то согласно планов вражеской коалиции она была бы подвергнута разделу, как позже Польша, и история Пруссии закончилась бы.
Через полстолетия после Семилетней войны Пруссии снова угрожала такая судьба, и на этот раз дважды. После проигранной войны 1806 года ее дальнейшее существование было под вопросом; едва только спасшись, она в 1813 году рискнула снова. И в 1813 году также — в патриотических картинах истории этот факт охотно скрывают — существование Пруссии пару месяцев висело на волоске. В этот раз все в конце концов закончилось хорошо. Но Пруссия из своих двух испытаний на прочность вышла измененной: её едва ли можно было узнать.
Двойной эта проба на прочность была еще и по другой причине: не только потому, что Пруссия дважды, в 1806 и в 1813 годах играла ва-банк, а потому еще, что в отличие от того, что было полусотней лет ранее, к внешней пробе на прочность добавилась внутренняя. Пруссия не только оказалась в своей внешней политике между фронтами великого европейского противостояния с Наполеоном и Французской революцией, но эти фронты и во внутренней политике прошли через Пруссию, и она боролась за свое существование в состоянии внутреннего раскола, раздираемая между реформами и реакцией. В этой внутренней борьбе угрожавшее существованию страны поражение 1806/1807 годов принесло временную победу партии реформ; спасительная освободительная война 1813/1815 годов однако одновременно стала триумфом реакции.