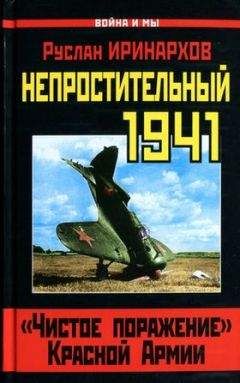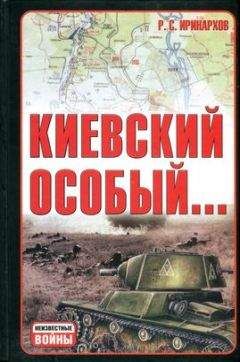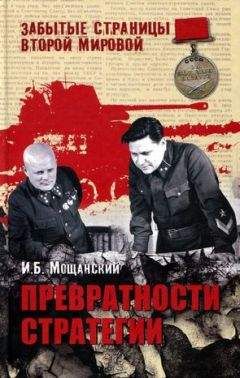Джакомо Казанова - История моей жизни
Мы входим в весьма удобный дом; у меня был первый этаж, три комнаты, кухня и длинная конюшня, которую я немедля превратил в караульню. Оставив меня, крестьянин отправился за всем, что мне было необходимо, и прежде всего искать женщину, которая бы сшила мне рубашек. В тот же день было у меня все: кровать, обстановка, добрый обед, кухонная утварь, двадцать четыре парня, всяк со своим ружьем, и старая-престарая портниха с молоденькими девушками-подмастерьями, дабы кроить и шить рубашки. После ужина пришел я в наилучшее расположение духа: вокруг меня собралось тридцать человек, что обходились со мною как с государем и не могли понять, что понадобилось мне на их острове. Одно лишь мне не нравилось — девицы не понимали по-итальянски, а я слишком дурно знал по-гречески, чтобы питать надежду просветить их своими речами.
Лишь наутро предстала мне моя гвардия под ружьем. Боже! Как я смеялся! Славные мои солдаты все как один были паликари; но рота солдат без мундиров и строя уморительна. Хуже стада баранов. Однако ж они научились отдавать честь ружьем и повиноваться приказам командиров. Я выставил трех часовых: одного у караульни, другого у своей комнаты и третьего у подножья горы, откуда видно было побережье. Он должен был предупредить, если появится на море вооруженный корабль. В первые два-три дня я полагал все это шуткой; но поняв, что, может статься, принужден буду применить силу, защищаясь от другой силы, шутить перестал. Я подумал, не привести ли солдат к присяге на верность, но все не мог решиться. Поручик мой заверил, что это в моей власти. Щедрость доставила мне любовь всего острова. Кухарка моя, что нашла мне белошвеек шить рубашки, надеялась, что в какую-нибудь я влюблюсь — но не во всех разом; я превзошел ее ожидания, и она позволяла мне насладиться всякой, что мне нравилась; в долгу я не оставался. Жизнь я вел воистину счастливую, ибо и стол у меня был не менее изысканный. Подавали мне упитанных барашков да бекасов, подобных которым пришлось мне отведать лишь двадцатью двумя годами позже, в Петербурге. Пил я только вино со Скополо и лучшие мускаты со всех островов архипелага. Единственным сотрапезником моим был поручик. Никогда не выходил я на прогулку без него и без двух своих паликари, что шли за мною для защиты от нескольких сердитых юношей, воображавших, будто из-за меня их оставили возлюбленные, белошвейки. Я рассудил, что без денег мне пришлось бы худо; но без денег я, быть может, и не отважился бы бежать с Корфу.
Прошла неделя, и вот однажды за ужином, часа за три до полуночи послышался от караульни голос часового — Piosine aftu *. Поручик мой выходит и, вернувшись через минуту, сообщает, что некий добрый человек, говорящий по-итальянски, хочет поведать мне нечто важное. Я велю ввести его, и в присутствии поручика он, к изумлению моему, произносит с печальным видом такие слова:
— Послезавтра, в воскресенье, святейший поп Дельдимопуло возгласит вам катарамонахию. Если вы не помешаете ему, долгая лихорадка в полтора месяца сведет вас в мир иной.
— Никогда не слыхал о таком снадобье.
— Это не снадобье. Это проклятие, оглашенное со святыми дарами в руках; такова его сила.
— Что за нужда у священника убивать меня подобным образом?
— Вы нарушаете мир и порядок в его приходе. Вы завладели множеством девушек, и бывшие возлюбленные не желают брать их в жены.
Велев поднести ему вина и поблагодарив, я пожелал ему доброй ночи. Дело представилось мне серьезным: я не верил ни в какие катарамонахии, но нимало не сомневался в силе ядов. Назавтра, в субботу, не сказавшись поручику, я на заре отправился один в церковь и, застав попа врасплох, произнес:
— При первом же приступе лихорадки, какой со мною случится, я размозжу вам голоду. Стало быть, выбирайте: либо проклятие ваше подействует в один день, либо пишите завещание. Прощайте.
Предупредивши его таким образом, я возвратился в свой дворец. В понедельник с самого раннего утра он явился отдать визит. У меня болела голова. Он спросил, как мое здоровье, и я сказал ему об этом; немало меня насмешив, он пустился заверять, что виноват во всем тяжелый воздух острова Казопо.
Прошло три дня после посещения его; я как раз собирался сесть за стол, но вдруг часовой на передней линии, которому видно было море, подает сигнал тревоги. Поручик мой выходит и, возвратившись четырьмя минутами позже, объявляет, что сейчас причалила к острову вооруженная фелюка и спустился на берег офицер. Поставив войско свое под ружье, я выхожу и вижу, как поднимается в гору, направляясь к моим квартирам, офицер в сопровождении крестьянина. Поля его шляпы были опущены; он старательно раздвигал тростью кусты, мешавшие пройти. Он был один — следственно, мне нечего было бояться; я вхожу в свою комнату и велю поручику отдать ему воинские почести и ввести в дом. Надев шпагу, я стоя поджидаю его.
Предо мною все тот же адъютант Минотто, который передавал мне приказ отправляться на бастарду.
— Вы один, — говорю я, — и значит, пришли ко мне как друг. Позвольте обнять вас.
— Мне ничего не остается, как прийти по-дружески; для врага у меня недостало бы сил одержать победу. Но не сон ли все, что я вижу?
— Садитесь и отобедаем вместе. Стол будет хорош.
— С удовольствием. А после обеда вместе уедем отсюда.
— Уедете вы один, коли пожелаете. Я же уеду лишь будучи уверен, что не только не попаду под арест, но и получу удовлетворение. Генерал должен отправить этого полоумного на галеры.
— Будьте благоразумны; лучше вам будет ехать со мною по своей воле. Мне приказано препроводить вас силой, но сил у меня не хватит; довольно будет моего рапорта, и за вами пришлют столько людей, что вам придется сдаться.
— Никогда я не сдамся, дорогой друг; живым меня не взять.
— Но вы с ума сошли — ведь вы не правы. Вы ослушались приказа отправляться на Бастарду, который я вам принес. Только в этом ваша вина, ибо в остальном вы тысячу раз правы. Сам генерал так сказал.
— Стало быть, я должен был идти под арест?
— Без сомнения. Повиноваться — наш первый долг.
— Значит, на моем месте вы бы подчинились?
— Не могу знать; знаю только, что когда б не подчинился, то совершил бы проступок.
— Следственно, если сейчас я сдамся, вина моя будет много больше и обойдутся со мною хуже, нежели если б я не ослушался несправедливого приказа?
— Не думаю. Едем, и вы все узнаете.
— Вы хотите, чтоб я ехал, не зная наперед своей участи? Не дожидайтесь даром. Лучше будем обедать. Коли уж я такой преступник, что ко мне применяют силу, я сдамся силе; виновней мне уже не быть, хоть и будет пролита кровь.
— Напротив, вина ваша возрастет. Будем обедать. Быть может, добрая еда придаст вам рассудительности.
К концу обеда доносится до нас шум. Поручик говорит, что к дому моему стекаются толпы крестьян, привлеченные слухом, будто фелюка пришла с Корфу единственно затем, чтобы увезти меня, и готовые действовать по моему приказанию. Я велел ему разубедить этих славных храбрецов и, выставив им бочонок кавалльского вина, отослать по домам.
Расходясь, они разрядили в воздух ружья. Адъютант, улыбаясь, сказал, что все это весьма мило; но если ему придется уехать на Корфу без меня, это, напротив, будет выглядеть ужасно, ибо он будет принужден представить весьма подробный рапорт.
— Я поеду с вами, если вы дадите мне слово чести, что я сойду на Корфу как свободный человек.
— У меня приказ доставить вас к г-ну Фоскари на Бастарду.
— На сей раз вы не исполните приказа.
— Для генерала дело чести заставить вас повиноваться, и, поверьте, он найдет способ это сделать. Но скажите на милость, что станете вы делать, если генерал забавы ради решится оставить вас здесь? Однако здесь вас не оставят. Я представлю рапорт, и дело решится без кровопролития.
— Нелегко будет это сделать, не учинив бойни. С пятью сотнями здешних крестьян мне не страшны и три тысячи человек.
— Человека найдут одного, а с вами обойдутся как с главарем бунтовщиков. Все эти преданные вам люди не в силах защитить вас от одного-единственного, который за плату продырявит вам череп. Скажу больше. Из всех этих греков, что окружают вас, не найдется ни одного, кто бы не согласился вас убить и заработать двадцать цехинов. Поверьте мне, и едем со мною. На Корфу вас ожидает в некотором роде триумф. Вам станут рукоплескать, вас будут чествовать; вы расскажете сами, какое безумство совершили, и все посмеются, но в то же время и восхитятся тем, что немедля по приезде моем вы подались на доводы здравого смысла. Все почитают вас. Г-н Д. Р. проникся к вам великим уважением за мужество, с каким вы не стали дырявить насквозь этого безумца, дабы не оказаться непочтительным к хозяину дома. Да и сам генерал должен ценить вас, ибо вряд ли позабыл, что вы ему говорили.
— А какова судьба этого несчастного?