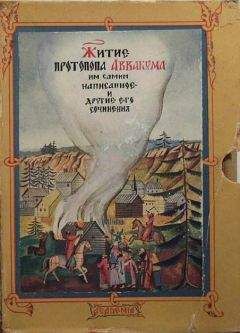Стефан Куртуа - Черная книга коммунизма
То, что размах преступлений коммунизма был как бы затемнен для западного взгляда, объясняется еще тремя, более специфическими причинами. Первая заключается в приверженности самой идее революции как претворявшейся в жизнь на протяжении XIX и XX веков. Мы и сегодня не до конца попрощались с ней. Ее символы — красное знамя, Интернационал, поднятый кверху кулак — вновь появляются при каждой сколько-нибудь яркой революционной вспышке. Че Гевара снова в моде. Активно и открыто действуют революционные группы, они совершенно законно выражают свои взгляды и с презрением встречают малейшую попытку критически поразмыслить о преступлениях их предшественников. Ничуть не смущаясь, они повторяют старые речи, оправдывающие Ленина, Троцкого или Мао Цзэдуна. Никто не застрахован от этого, и некоторые авторы этой книги верили в свое время в коммунистическую ложь.
Вторая причина — участие Советов в победе над нацизмом, что позволило коммунистам маскировать под горячий патриотизм свои конечные цели захвата власти. Начиная с июня 1941 года все коммунистические партии в оккупированных странах приступили к активному, и зачастую вооруженному, сопротивлению нацистским или итальянским оккупантам. Как и другие участники Сопротивления, коммунисты дорого заплатили за свою борьбу — тысячи расстрелянных, убитых в боях, депортированных. Коммунисты сыграли на этих жертвах, чтобы освятить идеи коммунизма и представить всякую критику в свой адрес как кощунственную. Кроме того, многие некоммунисты в процессе борьбы против общего врага оказались связаны с коммунистами узами солидарности, узами совместно пролитой крови, а это мешало им непредвзято посмотреть на своих боевых товарищей. Во Франции тактика голлистов во многом определялась этими общими воспоминаниями и тем, что генерал де Голль использовал СССР как противовес в трениях с американцами.
Участие коммунистов в войне, их вклад в победу над нацизмом решительным образом способствовали торжеству понятия «антифашизм» как критерия истинности для левых, и, конечно же, коммунисты постарались выставить себя лучшими представителями и лучшими защитниками антифашизма. Антифашизм стал для коммунизма престижной «товарной маркой», и им не составляло труда во имя антифашизма затыкать рты непокорным. Побежденный нацизм был определен победителями-союзниками как абсолютное Зло, что автоматически переместило коммунизм в лагерь Добра. Это стало очевидным на Нюрнбергском процессе, где Советы выступали в роли обвинителей. В результате были быстро сняты с обсуждения такие щекотливые, с позиций демократических ценностей, вопросы, как заключение Советско-германского пакта о ненападении 1939 года и расстрелы в Катыни. Победа над нацизмом оборачивалась доказательством превосходства советской системы. Во всю мощь коммунистическая пропаганда использовала и настроения, господствовавшие тогда в странах Европы, освобожденных англичанами и американцами: чувство благодарности по отношению к Красной Армии (поскольку они не подверглись ее оккупации) и чувство вины перед народами Советского Союза, принесшего огромные жертвы ради Победы.
В то же время условия «освобождения» Красной Армией Восточной Европы оставались совершенно неверно истолкованными на Западе. Историки не замечали различия между двумя типами освобождения: один привел к восстановлению демократии, другой открыл дорогу к установлению диктатур. В Центральной и Восточной Европе советская система по сути претендовала на наследство Тысячелетнего рейха, и Витольд Гомбрович в нескольких точных образах представил трагедию этих народов:
«Окончание войны не принесло полякам освобождения. В этой унылой Центральной Европе она означала лишь то, что на смену одной ночи пришла другая, палачей Гитлера заменили палачи Сталина. В то время как возвышенные души в парижских кафе приветствовали ликующим пением «освобождение польского народа от феодального ига», в самой Польше те же самые сигареты перешли из одних рук в другие и попрежнему жгли человеческую кожу».
Вот где находится разлом между двумя типами европейского опыта. Однако очень скоро некоторым авторам удалось приподнять край занавеса над методами обращения в СССР с освобожденными от нацизма поляками, немцами, чехами и словаками. Третья причина «затемнения» более изощренна, а также более деликатна. После 1945 года геноцид еврейского народа казался парадигмой новейшего варварства, заняв все обозримое поле массового террора в XX веке. Коммунисты, отрицая на первых порах специфику нацистских преследований евреев, быстро сообразили, какую выгоду они могут извлечь из признания этой специфики для регулярного реанимирования антифашизма. Призрак «гнусного чрева, еще способного плодоносить» — знаменитая формула Бертольда Брехта — регулярно возникал в их пропаганде по всякому поводу и вовсе без повода. В более поздние времена, подчеркивая «единичность» геноцида евреев и сосредотачивая внимание на исключительности этих зверств, они препятствовали распознаванию явлений того же порядка в коммунистическом мире. Да и можно ли было вообразить, чтобы те, кто своей победой в войне способствовали крушению человеконенавистнической системы, сами действовали теми же методами? Наиболее распространенной реакцией на постановку подобного вопроса был отказ вообще рассматривать такой парадокс.
Первый крутой поворот в официальном признании коммунистических преступлений произошел 24 февраля 1956 года. В тот вечер первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев поднялся на трибуну XX съезда Коммунистической партии Советского Союза. Заседание было наглухо закрыто для гостей, присутствовали только делегаты съезда. В полном молчании, ошеломленные, слушали они, как первый секретарь партии методично разрушал образ «отца народов», «гениального Сталина», бывшего на протяжении тридцати лет героем в глазах всего мирового коммунизма. Этот доклад, известный как «тайный доклад Хрущева», стал основной точкой разлома современного коммунизма. Впервые коммунистический руководитель самого высокого ранга признавал официально, хотя только перед своими товарищей по партии, что режиму, захватившему власть в 1917 году, были свойственны «уклоны» самого преступного характера.
«Господин X» сокрушил одно из главных табу советского режима по многим соображениям. Главная его цель заключалась в том, чтобы приписать злодеяния коммунизма одному Сталину и таким образом ограничить вред, наносимый режиму подобным разоблачением. Равным образом его решение объяснялось и желанием нанести удар по клану сталинистов, сопротивлявшихся действиям Хрущева, которые противоречили методам их былого хозяина; впрочем, летом 1957 года эти люди были отстранены от всех высоких постов. Заметим в этой связи, что в первый раз после 1934 года за их «политической смертью» не последовала смерть реальная, и, оценивая эту простую «деталь», можно понять, что мотивация Хрущева была более глубокой. Его, годами стоявшего во главе Украины, причастного к совершению и сокрытию огромного количества убийств, тяготила пролитая кровь. В своих воспоминаниях, несомненно приукрашивая себя, Хрущев так рисует свое душевное состояние:
«Меня мучила мысль: «Вот кончится съезд, будет принята резолюция, и всё это формально. А что дальше? На нашей совести останутся сотни тысяч безвинно расстрелянных людей…»».
И сразу же он резко упрекает своих товарищей:
«Как быть с прошлыми расстрелами и арестами? (…) Ведь мы уже знаем, что люди, подвергавшиеся репрессиям, были невиновны и не являлись врагами народа. Это — честные люди, преданные партии, революции, ленинскому делу строительства социализма в СССР. (…) Невозможно скрыть. Люди будут выходить из тюрем, приезжать к родным, расскажут родственникам, друзьям, товарищам, как всё было.
(…) Именно на (…) съезде мы должны чистосердечно рассказать всю правду о жизни и деятельности нашей партии (…) Когда от бывших заключенных партия узнает правду, нам скажут: позвольте, как же это так? Состоялся XX съезд, и там нам ни о чем не рассказали? И мы ничего не сумеем ответить. Сказать, что мы ничего не знали, будет ложь. (…) Даже у людей, которые совершили преступления, раз в жизни наступает такой момент, когда они могут сознаться, и это принесет им если не оправдание, то снисхождение».
Некоторые из этих людей, непосредственно принимавших участие в преступлениях Сталина и своим продвижением по карьерной лестнице обязанных уничтожению предшественников на высоких постах, выражали в какой-то степени сожаление — сожаление, конечно, деланное, небескорыстное, сожаление политиканов, но все же сожаление. Однако это вовсе не значило, что кто-то из них пытался остановить убийства. У Хрущева хватило на это решимости, хотя в том же 1956 году он не колеблясь двинул советские танки на восставший Будапешт.