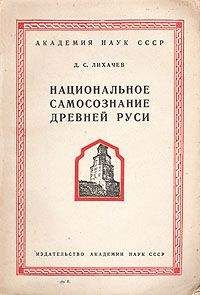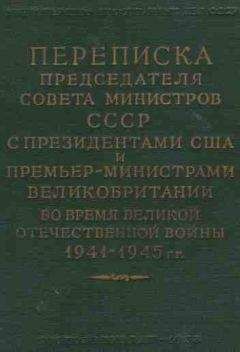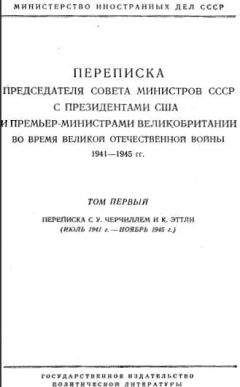Игнатий Крачковский - Над арабскими рукописями
В конце 1921 года я был избран академиком и по обычному порядку того времени должен был оставить место сотрудника в музее. По существу это, конечно, не помешало бы мне продолжать работу, но в следующем году я был избран еще на впервые установленную должность секретаря Отделения исторических наук и филологии. Новые организационно-административные обязанности, связанные с необходимостью заменять непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга во время его частых поездок, почти на семь лет оторвали меня от музея и сильно сократили возможность личной научной работы.
Между тем старый Азиатский музей приходил к концу. В связи с двухсотлетним юбилеем Академии в 1925 году, музей перешел в новое здание наверху библиотеки Академии Наук, а затем превратился в Институт востоковедения, объединив другие востоковедные учреждения Академии. Начался новый период. Все работники это сознавали, однако многим было трудно расставаться со старым, неудобным, но уютным и как-то обжитым помещением музея в Таможенном переулке, где он занимал первый этаж, а здесь надо было подниматься, по существу, на восьмой. Не для всех это было даже физически легко и прежде всего почувствовал это Ф.А. Розенберг. Хворавший последние годы, иногда с трудом двигавшийся, после переезда он окончательно начал как-то потухать. Врачи долго не могли определить старческого туберкулеза и последний хранитель на глазах у всех нас сходил на-нет. Как верная нянька почти каждый день навещал его в одинокой квартире Е.Д. Зюзин, быть может слишком балуя выполнением некоторых, едва ли полезных для больного желаний. Умирал он все же героически на посту ученого: в те немногие ночные часы, когда на время оставляла сорокаградусная температура и исчезали видения отошедших друзей, он готовил к юбилею Фирдоуси перевод и комментарии избранных отрывков из „Шахнаме“, лучшим знатоком которой он был. Небольшая, изящно изданная книжка и оказалась его последний, увы, уже посмертным произведением.
Академик X. Д. Френ (1782-1851)
О старом Азиатском музее горевал не он один. Мы, конечно, хорошо сознавали, что для Академии неизбежен переход от кустарных иногда форм индивидуальной работы маленьких учреждений к большим комплексным институтам с крупным коллективом сотрудников. Но все же нам было грустно, что работа над рукописями и фондами, которая была основным нервом и наполняла всю жизнь Азиатского музея, отходила как-то на задний план и значение ее не всем уже было понятно. Тесный кружок ученых, живших в библиотеке и для библиотеки, растворялся в большом научно-исследовательском институте с десятками, а потом и сотней сотрудников, с широкими планами. Все это было вполне закономерно и понятно, но мы вспоминали старый Азиатский музей, как вспоминают красоту кустарных изделий, уходящую под натиском современного производства. Это неизбежно, но для выросших в старой обстановке такой красоты понятна и грусть по ней. И, вероятно, не я один с особым чувством вспоминаю «легенду» об Азиатском музее, сложившуюся в его недрах в 20-х годах. Действие ее происходило в царстве короля „доброго Бука“, в замке рыцаря „Розовая гора“; жили там и добрый волшебник – сарацин, и суровый Питер-Фламандец, было там целых три трубадура: Жюль – Aux cheveux longs (длинноволосый), Бус – Aux cheveux blonds (светловолосый) и Дус – Aus cheveux noirs (черноволосый); был даже жонглер Алексис Ле Беф и много, много других… Каждый из них и сегодня видится мне на фоне все тех же красных шкафов, тех же книг и рукописей, что десятки лет окружали нас в старом Азиатском музее.
2. Единственная рукопись и ученые „дванадесять язык“
В моей жизни арабиста часто встречались рукописи, которые были открыты давно, как-то незаметно, без всякого шума, но история их постепенного проникновения в науку напоминает иногда волшебную сказку: в ней появляется такое количество действующих лиц, судьбы их так неожиданно переплетаются, что даже неприкрашенная фабула оказывается поучительной иллюстрацией мощи коллективной международной работы, которая вовлекает в свое русло и первостепенные таланты и рядовых работников, и многомиллионные народы с давней арабистической традицией и нации, только на наших глазах получившие признание своей самостоятельности, и Восток и Запад во всем их наружном многообразии. Картина величественная и поучительная, в которой как „солнце в малой капле вод“ отражается неустанное движение человеческой: культуры.
В XII веке в Кордове жил одни арабский поет. В придворных кругах многочисленных эмиров Испании, разделивших славный кордовский халифат, он был мало известен, но на рынках, ярмарках, всюду, где собирался простой народ, его встречали как желанного гостя не только в Кордове, но и в других городах Андалусии, в Севилье и Гранаде. Родным языком его был арабский; только обличье его – голубые глаза, рыжевато-золотистая борода, говорили о том, что среди его предков встречались и представители европейских народностей. Самое имя его „Ибн Кузман“ было одинаково в ходу и среди арабов и среди испанцев. В своих стихах он не подражал старым арабским образцам торжественных панегириков на классическом языке; в его живых веселых песнях чаще всего говорилось про любовь и вино, нередко с намеками на необходимость помочь бедному бродячему певцу. Крупный талант превращал каждую песню в яркую картину всей обстановки и быта, обыкновенно смелую, очень часто фривольную… Литературным языком Ибн Кузман почти не пользовался, предпочитая ему народный разговорный диалект родной области и, не стесняясь, вставлял понятные там романские слова и целые фразы. Не удивительно, что такая поэзия была не в духе строгих литературоведов-пуристов, поклонников классической традиции: они считали ниже своего достоинства записывать веселые заджали (песни) Ибн Кузмана. Все же многим они нравились и постепенно продвигались на восток арабского мира. Здесь в Палестине, в маленьком городке Сафад, какой-то араб веком позже списал их для своего собственного развлечения. Проделал он это аккуратно и тщательно, но далекого арабско-испанского диалекта он не знал, а о романском языке, конечно, не имел никакого представления; легко себе вообразить, какие искажения вкрались в список, местами воспроизводивший механически непонятное сочетание арабских букв. И все-таки, мы не много бы знали об Ибн Кузмане, если бы эта единственная, известная до сих пор рукопись не сохранилась у нас в Азиатском музее. Попала она сюда сложным путем, благодаря целому ряду счастливых случайностей.
В конце XVII века из Женевы в Сирию выселился некий Руссо, представитель фамилии, прославленной впоследствии знаменитым Жан-Жаком Руссо. Здесь ему удалось устроиться лучше, чем на родине, и постепенно он приобрел некоторый достаток. Ко времени французской революции его сын был консульским представителем своего правительства в Алеппо и Багдаде. Внук, выросший на Востоке, оставался человеком французской культуры, но превратился в настоящего левантинца. Он в совершенстве владел арабским, персидским и турецким языками, хорошо знал по непосредственным впечатлениям не только Турцию, но и Персию, где выполнял важные дипломатические и торговые поручения французского правительства. Пойдя по стопам отца, как официальный коммерческий и консульский агент, он превосходил его и знаниями и некоторым научным интересом к тем странам, где жил. Долговременное пребывание в Алеппо, которое представляло тогда своеобразное «областное культурное гнездо», развило в нем вкус к литературе и собиранию рукописей. У него постепенно накопилась большая и умело подобранная коллекция; „диван“ Ибн Кузмана явился далеко не единственным уником в ней. Вторую половину своей не очень спокойной жизни Руссо провел в Триполи африканском; его материальные обстоятельства в это время сложились так, что около 1815 года ему пришлось думать о ликвидации коллекций.
С предложением приобрести их он прежде всего обратился к французскому правительству. Финансы, расстроенные после наполеоновских войн, не позволили тому согласиться на довольно значительную сумму, которую с полным основанием требовал владелец. Знаменитый Сильвестр де Саси, крупнейший ориенталист своего времени, хорошо понимавший значение этой коллекции, сообщил о ней через учеников, приглашенных профессорами в Петербург, известному ему лично министру народного просвещения Уварову, автору проекта „Азиатской Академии“, которым так интересовался Гёте. Коллекция была приобретена двумя партиями в 1819 и 1825 году. Франция лишилась ценного собрания, но у нас оно сыграло громадную роль, положив основание мировым фондам Азиатского музея. Своей притягательной силой не меньше монет академического собрания оно удержало навсегда в России знаменитого Френа, который из Казани, где прослужил десять лет, возвращался к себе на родину в Росток, на кафедру своего умершего учителя. Этот первый хранитель Азиатского музея, основатель нашей научной арабистики, по достоинству оценил значение рукописей и с бенедиктинским трудолюбием в многочисленных томах своих материалов дал первое их описание – инвентарь. Стихи Ибн Кузмана были, таким образом, спасены и нашли надежное место хранения, но в науку они вошли еще не скоро – более чем через 60 лет.