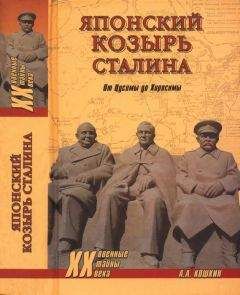Сборник статей - И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата
12 Это мнение относится не только к Чаадаеву, но и ко всей русской философии.
В одном из своих последних интервью девяностолетний Ло Гатто вспоминает о своих встречах с Кроче (это было сразу после Первой мировой войны, когда Ло Гатто вернулся из плена и переводил с немецкого «Россию и Европу» Т. Масарика) и приводит его высказывание о том, что у русских не было своей философии, ибо выражением их философии стала литература. Это утверждение, по мнению Ло Гатто, не было лишено оснований, но сам он знал русских философов, которые были настоящими и глубокими мыслителями. См.: Maz-zitelli G. Intervista a Ettore Lo Gatto // Rassegna sovietica Vol.XXXIII. № 2 (1982). P. 93.
Константин поливанов О тютчевских источниках Пастернака Заметки к комментариям
Высказывания Пастернака о поэзии Тютчева немногочисленны, но весьма значимы. 12 июля 1954 года Пастернак писал старшему сыну: «.. какие-то годы жизни шли у меня в сопровождении Тютчева… -»1 Характеризуя свой перевод «Фауста», он замечал в письме П.П. Сувчинскому от 11 декабря 1957 года:
...За этой работой <… > у меня было такое чувство, что какой-то новый шаг сделан в русской лирике, достигнута какая-то новая ее ступень, вроде того, что ли, как самым ошеломляющим существом Тютчева, а потом и Блока, мне представляется до сих пор ощутимая легкость, обиходность и естественность языка, отвечавшего новизне их времени, свежести беглого текучего словаря, на каждом шагу представляющего мгновенный ненасильственный выбор (X, 283)2.
Очень высоко оценивая статью А.Д. Синявского о своей поэзии, Пастернак писал ее автору 29 июня 1957 года, что его работа напомнила «лучшие в этом отношении впечатления юности, вроде Аксаковской биографии Тютчева или Страховских статей о Фете» (X, 235). Здесь в равной мере важны и факт раннего знакомства Пастернака с книгой И.С. Аксакова, и прикровенно намеченная аналогия (Тютчев – Пастернак), подкрепленная куда более привычной (Фет – Пастернак). Наконец, имя Тютчева возникает в «Людях и положениях» при рассказе о выходе Пастернака летом 1913 года на стезю поэзии (см. ниже). Из приведенных цитат следует, что поэзия Тютчева была актуальна для Пастернака на разных этапах творческого пути, в частности, в «начальную пору» и в последнее десятилетие, к которому относится большинство высказываний о Тютчеве. Аналогично обстоит дело и в собственно поэзии Пастернака – Тютчев присутствует в его поэзии от первой книги – «Близнец в тучах» и до последнего цикла «Когда разгуляется».
Тютчевские мотивы и интонации в поэзии Пастернака едва ли не первым отметил Н.А. Оцуп3. Тематические переклички (за которыми,
вероятно, кроется определенное родство мировосприятия двух поэтов), появление в стихах Пастернака тютчевских образов, цитирование им заглавий и начальных строк стихотворений Тютчева уже фиксировались исследователями, чьи наблюдения будут названы и развиты ниже, при обсуждении девяти – в той или иной мере «тютчевизированных» – стихотворений Пастернака разных лет.
«Я рос, меня, как Ганимеда…»
Тютчевский источник этого стихотворения впервые был выявлен Рональдом Врооном. Подробно рассматривая ключевые мотивы «Близнеца в тучах», Вроон убедительно связал один из них – мотив «творческого полета / поэтического вознесения» – с «Уранией» Тютчева, реминисценции которой ощутимы в открывающем книгу «Эдеме» («Когда за лиры лабиринт / Поэты взор вперят <… >. Минуя низменную тень, / Их ангелы взнесут…» [1,326]) и «Я рос, меня, как Ганимеда…». Вроон пишет:
...Второе по порядку стихотворение в быковском издании Тютчева (которым, скорее всего, пользовался Пастернак) – это псевдоклассическая декламация «Урания», в которой сияющий поэтический восход Ломоносова сравнивается с блеском звезд-Близнецов: «Он повелительный простер на море взор – И свет его горит, как Поллюкс и Кастор!» Эта подтекстовая связь с Близнецами «Урании» – а через них и с символикой нового поэтического строя – подкрепляется стихотворением, открывающим «Близнеца в тучах». «Эдем», подобно «Урании», описывает восхождение поэта в высь космоса, откуда он может обозревать весь пространственно-временной простор поэзии (в обоих стихотворениях упоминаются и Индия, и эдемские врата) в ожидании встречи с Афродитой Уранией – богиней небесной любви и возвышенной поэзии4.
Цитирование «Урании» позволяет объяснить как скрытую отсылку к Ломоносову (и его биографическому мифу) появление слова «поморье» в последней строфе «Я рос, меня, как Ганимеда…»:
Разметанным поморье бреда
Безбрежно машет издали…
(1,329)
В этом же стихотворении, возможно, отразилось и сопоставление судеб орла и лебедя в тютчевском «Лебеде» («Пускай орел за облаками <…>. Но нет завиднее удела, / О лебедь чистый, твоего…» [144]). Ср. у Пастернака:
И только оттого мы в небе
Восторженно сплетем персты,
Что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечом к плечу, и ты.
(1,328)5
Также Вроон пишет о связи мотивов сна первой книги со звездной символикой и «Близнецами» Тютчева (174) – которые в результате соотносятся с заглавием книги Пастернака и с двумя центральными ее стихотворениями – «Близнецы» и «Близнец на корме» (I, ЗЗЗ-335)6* На сходство разработки мотива сна о смерти в «Августе» с тютчевскими «Близнецами» ранее указывал Л.С. Флейшман7. Неслучайность тютчевских аллюзий в «Близнеце…» подтверждается рассказом Пастернака в автобиографическом очерке «Люди и положения» об обстановке, в которой возникла его первая книга (фрагмент этот цитировался и Флейшманом, и Врооном):
...Под парком вилась небольшая речка, вся в крутых водороинах. Над одним из омутов полуоборвалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза.
Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водой воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться сидя или полулежа. Здесь обосновал я свой рабочий угол. Я читал Тютчева и впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку (III, 324).
По предположению Сусанны Витт (доклад на конференции «Любовь пространства: поэтика места в художественном мире и судьбе Пастернака», Пермь, 4 июля 2006 года), в этом описании могли отозваться строки Тютчева «В ночи не совещалась с ними / В беседе дружеской гроза» («Не то, что мните вы, природа…» [136]). Вроон также допускает, что фамилия Тютчев аннаграммируется в заглавии книги Пастернака («в тучах»)8.
«Любимая – жуть! Когда любит поэт…»
Представляется убедительным предположение Вроона о том, что в быковском издании стихотворений Тютчева внимание Пастернака должен был привлечь предпосланный текстам критико-биографический очерк В.Я. Брюсова. По мнению Вроона, Пастернака могли заинтересовать и «биографические» параллели: «воспитание в привилегированном космополитическом кругу, обучение в Московском университете, пребывание в Германии», но более существенно сближает поэтический мир Тютчева с Пастернаком, отмечаемое Брюсовым слияние человека и природы, причем не только в гармонии, но и в хаосе9.
Действительно, пассаж Брюсова о значимости хаоса для Тютчева может прочитываться как своеобразная «программа» дальнейшего развития поэтического мира Пастернака:
...Не менее дороги были Тютчеву те явления природы, в которых «хаотическое» выступало наружу, – и прежде всего гроза. Грозе посвящено несколько лучших стихотворений Тютчева. В беглых зарницах, загорающихся над землею, усматривал он взгляд каких-то «грозных зениц». Другой раз казалось ему, что этими зарницами ведут меж собою беседу какие-то «глухонемые демоны», решающие некое «таинственное дело». Или наконец угадывал он незримую гигантскую пяту, под которой гнутся, в минуты летних бурь, лесные исполины. И, прислушиваясь к сетованиям ночного ветра, к его песням «про древний хаос про родимый», сознавался Тютчев, что его ночная душа жадно
Внимает повести любимой…
...Но подсмотреть хаос можно не только во внешней природе, но и в человеческой душе. Подобно тому, как ночь, как гроза, как буря, как ночной ветер, влекло к себе Тютчева все хаотическое, что таится и порою вскрывается в наших душах, в нашей жизни, в любви, в смерти, во сне и в безумии, усматривал Тютчев священное для него начало хаоса10.
«Хаос» появляется у Пастернака и в природе, на фоне которой разворачивается любовный сюжет:
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.
(«Зеркало» [1,118])
и в отношениях героев:
Любимая – жуть! Когда любит поэт
Влюбляется бог неприкаянный
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых…
(I,155)
Оживающий хаос здесь представляет важный мотив, заданный русской поэзии Тютчевым, в стихах которого дисгармонию привносит в мир любовь вообще («поединок роковой» [ «Предопределение», 173]) и любовь поэта в особенности («Не верь, не верь поэту, дева, / Его своим ты не зови – / И пуще пламенного гнева / Страшись поэтовой любви» [146]).