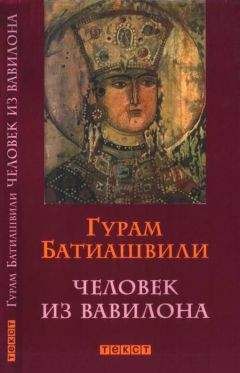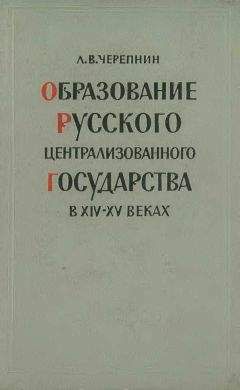Василий Розанов - Русский Нил
Ну, вот наконец и угол: хорошо я его обнял и поцеловал. Бревенчатый и необтесанный, то есть не крытый тесом: все точь-в-точь такое, что я люблю и считаю лучшим на Руси. И мои лучшие времена прошли в таких домах, одушевленные, творческие. В каменных домах я только разрушал и издевался.
Теперь собака уже тщетно лаяла. Я быстро пошел назад. Смотрю на сходнях фотографии-открытки (открытые письма) города. Между ними вдруг я увидал вид Свияги. Боже, да ведь Свияга-то для меня еще более дорога, чем Волга! Тут-то мы и купались, и буквально толклись все время на лодке. Свияга — маленькая речка, вся вьющаяся (постоянные извилины), без пароходов и плотов на ней, чисто "для удовольствия". Она протекает, сколько теперь понимаю, позади Симбирска и параллельно Волге. Во всяком случае мы, гимназисты, все время проводили именно не на Волге, а на Свияге, отвечавшей величиною своею масштабу нашего ума и сил. Точно она для гимназистов сделана. Беклемишевы переплывали ее поперек. Тут превосходные были места для купанья. Но главное — катанье на лодке, тихое, поэтическое, которому ничто не мешает (то есть шумные и опасные пароходы). Вообще тут не происходило ничего торгового, и она вся была для удовольствия, "для гимназистов"… Она сильно заросла около берегов травами; полноводная и довольно глубокая. Местами — деревья, склонившиеся над нею!
С наслаждением купил ее фотографию. Ступил дальше по сходням. Смотрю: великолепный букет цветов у булочницы.
— Продай, тетенька.
— Не продам.
— Да мне надо, а тебе зачем? Я тридцать лет назад тут жил, и мне дорого, с родины.
— Самой нужно.
— А сколько вы дадите? — послышался сзади голос. Обернулся. Vis-a-vis с ларем парень, должно быть, возлюбленный булочницы. Не видно, чтобы муж. У мужей другая повадка.
— Двадцать пять копеек дам.
— Отдай, Матрена, — распорядился он.
Она передала мне букет. И розы, и все. Прекрасный. Я вошел с ними на пароход. И все дивился; как попал букет к булочнице?
— Да ведь завтра Троица, — сказали мне на пароходе. — Букет она приготовила себе, чтобы идти с ним в церковь, и оттого не продавала.
Так и вышло, что «возлюбленный» и надежда завтра «выпить» принесли мне цветы с родины.
* * *На волжском пароходе мне встретилась молодая парочка. Он — светлый блондин хорошего роста, с открытым веселым лицом, она — темная брюнетка, молчаливая и несколько угрюмая. Я все примеривал мысленно, какую службу он занимает, и решил, что служит или в банке, или по министерству народного просвещения. Любопытство взяло верх над нерешительностью, и я спросил его.
— Рабинович. Учитель Р-ской гимназии, по математике и физике.
— Но ведь это еврейская фамилия? «Рабби», "Рабинович"?
— Я еврей. А вы и не узнали?
— Но у вас из русских русское лицо! И вся повадка, манеры, речь. И жена ваша еврейка? Эту-то видно, такая темная!
— Из русских русская. — Он назвал фамилию в девичестве. — И она учительница, преподавала новые языки в В-ской гимназии.
— Значит, вы православный? Браки с евреями запрещены.
— Я евангелического вероисповедания. Да вы, может быть, слышали: наш род старинный ученый еврейский род, но отец мой принял христианство, однако, не православное, а евангелическое. Он, впрочем, был и не лютеранин. Он принял только христианство в его общей форме, не церковной. И основал особую общину "Израиль Нового Завета".
Я тотчас вспомнил статью Владимира Соловьева,[43] написанную с большим энтузиазмом, об этом новом движении в еврействе, какое тогда только что произошло. Влад. Соловьев указывал, что "доктор Рабинович своею "общиною Новозаветного Израиля" дает радикальное разрешение еврейского вопроса, перекинув мост между племенами. и культурами, доселе непримиримо враждебными". Он писал с энтузиазмом и о самой личности Рабиновича, высоко идеальной и чистой.
— Это о вашем отце писал Владимир Соловьев?
— Да. У отца моего хранилось много писем Владимира Сергеевича. По его смерти их взял, для разбора и издания, мой старший брат, занимающийся историек". Без сомнения, в них много есть любопытного. В лютеранском крае, у нас, о моем отце и возбужденном им религиозном движении читают лекции, и оно вообще вошло в круг протестантского богословского изложения.
— Неудивительно. Но я не думаю, чтобы под этим лежала глубокая точка зрения. Ваш отец все-таки принял христианство если и не в протестантских формах, то в протестантском духе, и это не может не льстить пасторам, которые самолюбивы, как и все мы, грешные.
Из дальнейших расспросов открылась глубоко трогательная вещь. В самом начале 80-х годов сперва на юге России, а потом и в Москве прошло сильное движение против евреев. Совершились первые погромы с убийствами и разорением имущества, и страх этих погромов перенесся и в Москву. Я кончал там курс в университете и живо помню это время, когда евреи упрашивали христиан взять на временное сохранение драгоценные свои вещи. Именно тогда в нашей прессе прошел и впервые был поставлен вопрос о том, "что такое Израиль", какова его историческая судьба, была ли она хоть где-нибудь положительна и плодотворна для коренного окружающего населения, и, словом, возник впервые теоретический «антисемитизм», как оправдание фактической ненависти и гонений. Еврейство заметалось. Невозможно представить себе ничего ужаснее, как то, что вот я, Борух такой-то, торговавший до сих пор папиросами и часами, оказываюсь обвиненным не за личные свои преступления, ненавидимым не за личные свои пороки или приносимый лично мною вред, а за то, что «когда-то» и «где-то» сделали люди, лично мне вовсе не ведомые, лично со мною никак не связанные, — люди, которые уже давно умерли и на которых я никак не мог повлиять, сколько бы ни желал этого! Есть родовой, фамильный аристократизм, и едва ли он симпатичен кому-нибудь: человек кичится "заслугами предков", сам не имея никаких заслуг или даже будучи отрицательною величиною. Насколько же ужаснее родовое, историческое ненавидение, бросающее камень в голову не того, кто виновен, но кто "черен и курчав", кто "еврей", — хотя бы лично он был уже нам и дружелюбен и полезен. Вспомнишь вековечное предречение Исаии, где так удивительно и до подробностей точно описана грядущая судьба Израиля между другими окружающими народами: "Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, — и мы отвращали от него лицо свое; он был презираем, — и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего на нем, и раною его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, — и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих; как овца, веден он был на заклание и, как агнец, перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был изъят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут был от земли живых, за преступление народа моего потерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и Он предал его мучению; когда же душа его принесет жертву умилостивления, — он узрит потомство долговечное".[44]
Знаменитое место это из 52-й главы пророка Исаии зачислено богословами в состав так называемых мессианских мест,[45] будто бы предсказывающих крестную смерть Иисуса Христа, но откуда же толкователи взяли, что у Иисуса Христа было "потомство долговечное" (конец текста), что Он был "изведавший болезни" (начало текста) или что окружающие "отвращали от него лицо свое"? Все было обратное этому) Между тем как к еврейскому народу, никогда не умевшему защититься даже при избиении его, в средние века и до сих пор народно именуемому «порхатый», болезненному, не храброму, не воинственному, робкому, слабому и вместе давшему человечеству Библию, ну, и уж, конечно, имеющему "потомство долговечное", и безродному международному скитальцу все это относится с разительною буквальностью! Даже "от уз и суда он был взят" (что совершенно не относится к Иисусу Христу, Который был "в узах" и "судим"), — как это очерчивает поразительную особенность евреев, что они почти не встречаются под судом и в темницах, «изъяты» от них. Но оставим в покое богословов, которые вечно тасуют какие-то чужие карты и вечно садятся за какую-то не свою игру.
В эту-то пору начавшегося нового гонения еврейскому националисту случилось быть в Иерусалиме. Затем я передаю почти буквально рассказ его сына: "С ним что-то произошло в храме Гроба Господня. Произошло чудо. Когда он стоял там, без молитвы, конечно, как еврей, и думал о народе своем — а о нем он постоянно думал, — его как будто что-то толкнуло и озарило. Озарила мысль, но точно пришедшая свыше. "Вот здесь, в этом самом месте, лежит ключ ко спасению Израиля, в Гробе Иисуса Христа. Израиль должен уверовать в Иисуса Христа, и как он уверует в Иисуса Христа, — он будет спасен, вражда и ненависть к нему прекратятся". Эта мысль моего отца, точнее — потрясение его, волнение его, сделалась поворотным пунктом всей его жизни. Больше он ничего не делал и ни о чем не думал, как чтобы привести свой народ к Иисусу Христу. Он основал общину — Израиль Нового Завета. Он обратился к единоверцам с вопросом: почему в то время, как немец не непременно протестант, француз не непременно католик, славянин не непременно православный, но есть славяне и немцы католики, а из французов многие — протестанты, — одни евреи связывают свое племя с Ветхим заветом? Религия — одно, а племя — другое, и между ними нет тожества и никакой вечной связи".