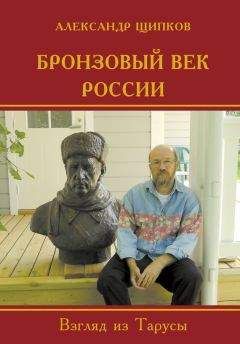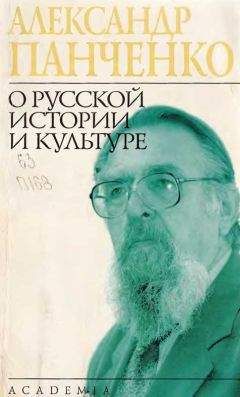Аполлон Коринфский - Народная Русь
Не все состарившиеся люди делаются брюзгливыми ворчунами, обличителями всего молодого-нового, то и дело повторяющими свое излюбленное словцо: «Нынче молодежь — погляди да брось!» Много и таких, что, просветлев разумом на склоне лет, становятся и более чуткими сердцем, более склонными ко всепрощению и всепониманию. Не ворчливые укоризны вызывает у такой старости вид зеленого молодого задора, а только сожаление о своих прожитых днях. «Старость — эх-ма! Молодость — ой-ой!» — вырывается у них из груди: «Молод бывал — на крыльях летал, стар стал — на печи сижу!», «Уплыли годы — что вешние воды!», «Молодо — зелено, погулять велено!», «Молоденький умок — что весенний ледок!», «Молодая отвага — что молодая брага!» и т. д. В лад с этими словами ведет свою речь и такая поговорка, как: «Только бы помолодеть, уж знал бы, как состариться!» Всякую молодую ошибку-проруху готовы оправдать такие добром поминающие молодость старики. «Молод бывал — и со грехом живал!» — скажут они в ответ-отповедь нетерпимости своих суровых сверстников: «Кто бабушке не внук, кто молод не бывал?» и т. д. Если, по их словам, «смолоду ворона по поднебесью не летала», то — «не полететь ей и под старость!»
Быстро схватывающие все своим зорким разумом, «из молодых да ранние» — на воркотню неуживчивой старости, что-де: «Зелен виноград не сладок, молод — не крепок!», всегда найдут что и как ответить. «Молод годами — стар умом!» — скажут они: «Ум бороды не ждет!», «Молод, да старые книги читал!», «Не спрашивай старого, спрашивай бывалого!» Кто понесговорчивее, тот опять заворчит на это: «Молоко на губах не обсохло, а к пиву тянется!» и т. д. А добродушная старость ухмыльнется в седую бороду на молодой задор и если оговорит его чем, то не более, как: «Молодой квас — и тот дойдет!», «Пока молод — пота и бродит!», «Молод — просмеется, зелен — дозреет». Иные же еще, пожалуй, добавят к этому: «Дважды молодому не бывать, не по две молодости жить!» — добавят и вздохнут, обвеянные памятью былого.
Молодость — цвет жизни — недолговечна… Особенно скоро осыпаются лепестки этого «цвета» у прекрасной половины рода человеческого. Девушка красная цветет — невестится. Придет ей судьба — и цветенью конец недалек в крестьянском суровом быту. «Расцветает — что маков цвет» красавица, — «Кровь с молоком!» — говорят о ней на деревне. Но недаром пословица молвится, что «красна девка до замужества», — года через два и не узнать недавней хороводницы веселой, раскрасавицы — знобившей сердца разгарчивые, как поется в поволжской песне, «без морозу, без осеннего дождя». Еще недавно, быть может, склонял к себе ее любовь заговорным словом удал добрый молодец, «замыкая» свой заговор «семидесятые семью замками, семидесятые семью цепями», посылая к зазнобившей сердце девице тоску полюбовную. «На море на Окияне, на острове на Буяне», — вычитывалось-нашептывалось это заговорное слово, — «есть бел-горюч камень Алатырь, никем неведомой; на том камне устроена огнепалимая баня, в той бане лежит разжигаемая доска, на той доске тридцать три тоски. Мечутся тоски, кидаются тоски и бросаются тоски из стены в стену, из угла в угол, от пола до потолка, оттуда через все пути и дороги и перепутья, воздухом и аером. Мечитесь, тоски, киньтесь, тоски, и бросьтесь, тоски, в буйную ея голову, в тыл, в лик, в ясныя очи, в сахарныя уста, в ретивое сердце, в ея ум и разум, в волю и хотение, во все ея тело белое и во всю кровь горячую, и во все ея кости, и во все суставы: в семьдесят суставов, полусуставов и подсуставов. И во все ея жилы: в семьдесят жил, полужил и поджилков, чтобы она тосковала, горевала, плакала бы и рыдала по всяк день, по всяк час, по всякое время, нигде б пробыть не могла, как рыба без воды! Кидалась бы, бросалась бы из окошка в окошко, из дверей в двери, из ворот в ворота, на все пути и дороги, и перепутья — с трепетом, тужением, с плачем и рыданием, зело спешно шла бы и бежала и пробыть без меня (имярек) ни единыя минуты не могла. Думала б обо мне — не задумала, спала б — не заспала, ела бы — не заела, пила б — не запила, и не боялась бы ничего, чтоб я ей казался милее свету белаго, милее солнца пресветлаго, милее луны прекрасныя, милее всех и даже милее сну своего, во всякое время: на молоду, под полн, на перекрое и на исходе месяца»… От этого ли слова заговора, без него ли — приглянулся добрый молодец красной девице, сладилась и свадебка, «одной девкой на селе стало меньше, больше — одной молодицею». А «молодице» недолго превратиться и в «бабу», у которой одна тоска-сухота — хозяйство домашнее да ребята малые. И вот еще недавно развертывавшее перед нею «все пути-дороги, все перепутьица» народное слово изрекает: «Бабе одна дорога — от печи до порога!», «Дал муж жене волю — не быть добру в доме!», «Шубу бей — теплее, жену бей — милее!», «Побьешь бабу — и щи вкуснее!», «Все в девушках девки хороши, а отколь злые жены берутся? Все парни- молодцы добрые, а откуда грозные мужья живут?» — Ответ на этот вопрос держит сама жизнь крестьянина, которая в детские да в ранние молодые годы кажется ему родимой матушкою, а потом оказывается мачехою лихой: «учить начнет — в три погибели согнет, выучит — не выпрямишься!»
В хороводных песнях-играх — краса крестьянской молодости: ими красна и вся жизнь посельщины-деревенщины, несмотря на то, что и девке, и парню — играть в хороводах только до «злата венца вековечного». Нет числа песням-припевам, нет счета играм. Весна красная — сплошь хороводное время, словно созданное на утеху-усладу молодой деревне. Лето — порушка страдная — и то не унимает голосистую молодежь. Словно и усталь не берет ее: только выдастся праздничек Божий, — чуть не до белой зорьки утренней песни-пляски, игры всякие. Осенью — уберется люд честной в полях, свезет на гумна хлебушко, молотьба приспевает, а у молодого народа — опять забота веселая: хороводы доваживать, песни доигрывать, — к свадьбам дело близится, октябрь-свадебник через прясла заглядывает.
«Как на улице дождик накрапает,
Хоровод красных девок прибывает.
Ох, вы, девушки, поиграйте!
Уж как вы, холостые, ни глядите:
Вам гляденьицем девушек не взяты,
Уж как взять ли, не взять ли
Что по батюшкину повеленью,
Что по матушкину благословенью!»
В этой старинной хороводной песне отразился, как в зеркале, взгляд народной Руси на святость родительской власти над детьми и на связанные с нею обычаи, ставшие законом семейного быта, до сих пор не утратившим своей силы. Но не так стал страшен для молодых любящих сердец этот некогда неумолимо-суровый «закон», зачастую ломавший-калечивший всю жизнь брачившихся. Свадьба — судьба, но и судьба не всем лиходейкою на роду написана. Из воли родительской редко кто выйдет в деревенском быту, да и отцу с матерью — не велика корысть делать своих детей несчастными. А если и не спросят отец-мать — сговорят, по рукам ударят, «пропьют» дочь не за того добра-молодца, для которого пелись-игрались ее хороводные веснянки, — то изольется ее тоска горючая в свадебных песнях, а там
— «Стерпится — слюбится!» — если будет между молодоженами добрый совет. А не благословит им Бог — так, по крылатому слову народной Руси: «И любя поженишься, да наплачешься!»… «Не всякая девица — невеста, что приглянется!» — говорят в народе. «Не всяк добрый молодец — жених, что присватается!» — приговаривают: «Не ищи красоты — ищи доброты!», «Красота приглядится, а добротою изба навек светла будет!» Не перечесть всех поговорок-пословиц, которыми окружил народ-пахарь «свадьбу-судьбу» своих сынов-дочерей. Как о них, так и о свадебных обычаях русской деревни был уже свой сказ в настоящих очерках (см. гл. XLIII).
«Скажи, скажи, воробышек, как девицы ходят?» — запевается одна хороводная песня. «Он этак и вот этак: туды глядь, сюды глядь, где молодцы сидят!» — не замедляется ответ. «Скажи, скажи, воробышек, как молодцы ходят?» — продолжает запевало. Ответ следует точно такой же, с тою лишь разницею, что «молодцы» высматривают: «где голубушки сидят». Иные слишком долго себе невест «высматривают», все раздумывают. «На молодой жениться — с молодцами не водиться!» — подсмеивается над такой нерешительностью народное слово: «Богатую взять — станет попрекать; хорошую взять — не даст слова сказать; грамотницу взять — станет праздники разбирать; худую взять — стыдно в люди показать; убогую взять — нечем содержать!» и т. д.
По всему светлорусскому простору поется-распевается с незапамятных времен песня о молодце, собиравшемся жениться на вдовушке, но нашедшем свою судьбу в красной девице. «Как пошел наш молодец вдоль улицы на конец»… — начинается эта песня: «Ах, Дон, ты наш Дон, сын Иванович, Дон!» — подхватывает хор. «Дон» в иных местностях заменяется «Дунаем», что нисколько, однако, не меняет сущности дела. «Ах, как звали молодца, позывали удальца!» — продолжает запевало, вызывая тот же самый припев. А звали героя песни — «во пир пировать, во беседушке сидеть, на игрище поиграть!». Не идет он, отговаривается: «Уж как мне ли, молодцу, худо можется, худо можется — нездоровится…» Но все-таки, несмотря на «нездоровье», сдвинув шапку-мурмашку набекрень, с гуслями звончатыми под полою идет он «ко вдовушке на конец». Пришел, садится «против вдовушки на скамье», сел, — заиграл «во гусли во звончатые»… Играл-играл — бьет вдове челом, «уронил шапку долой», — обращается ко вдове с просьбой очестливою: «Уж ты, вдовушка моя, молодая вдова, подними шапку-мурмашку!» — «Не твоя сударь-слуга, я не слушаю тебя!» — отвечает вдова, и опять — «пошел наш молодец вдоль улицы на конец». Снова звали, позывали его «во пир пировать, во беседушку сидеть, на игрище поиграть»; как и раньше, не пошел он ни в первый, ни на вторую, ни на третье, — пошел «ко девушке на конец». И вот, — продолжает песня: