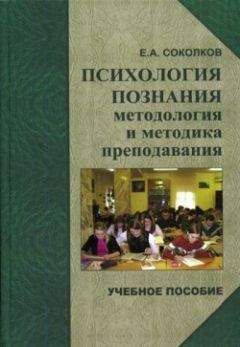Александр Лаппо-Данилевский - Методология истории
Всем известны случаи, когда свидетель хотел дать показание, но под давлением внешних — преимущественно социальных и политических — условий не мог дать его в том виде, в каком он хотел или не хотел дать показание, и тем не менее под влиянием условий подобного рода принужден был дать его.
В тех случаях, когда свидетель не может свободно высказаться, так как высказывание его стеснено какими-либо внешними условиями, его показание можно назвать связанным. Свидетель дает его хотя и произвольно, но не без стеснений, например, под влиянием страха порицания, преследования, наказания и т. п., а потому и не может выразить его с полной откровенностью; он искусственно порывает связь между содержанием своего показания и естественной формой его обнаружения; даже в том случае, если он хочет сказать правду, он прибегает к намекам на то, что ему хочется выразить, к разным аллегориям и т. п.; он сглаживает свой стиль, говорит «эзоповским языком» и т. п. При таких условиях он, разумеется, не может дать вполне удовлетворительное показание ввиду несоответствия между затаенным содержанием и формою умалчивания или даже легкого искажения некоторых фактов, иногда представляющих наибольший интерес; свидетель не всегда может придать полную достоверность своему показанию, хотя бы и желал избежать упрека в его недостоверности. В таких условиях часто находится тот, кто принужден высказываться под давлением цензуры: заблаговременно вызывая со стороны самого свидетеля меры к тому, чтобы прикрыть свое показание, она в обратном случае сама изменяет его. Деятельность цензуры распространяется на самые разнообразные показания. В последние годы своего правления английская королева Елисавета заботилась, например, о том, чтобы ее изображение на монетах возможно менее соответствовало оригиналу. Состарившись и подурнев, она осталась недовольна тем портретом, который и теперь еще можно видеть на одной большой серебряной монете, где королева представлена в профиль — с ее ястребиным носом, наморщенным челом и сжатыми губами. В награду за такую работу, слишком хорошо напоминавшую оригинал, Елисавета велела посадить художника-гравера, резавшего матрицу, под арест, а самую матрицу уничтожить, заменив ее более красивыми образцами. Влияние цензуры духовной и светской отразилось, конечно, на многих показаниях; доктора Сорбонны, например, долгое время применяли цензуру к трудам, касавшимся богословия, благочестия и философии; в 1848 г., по словам одного из наших благонамеренных писателей, цензура в России делалась «неслыханным бичом»… и решительно запрещала ему употреблять слова «низшие классы», «рабочий народ» или «класс», даже в тех случаях, когда он вовсе не касался русской жизни, и т. п.[599]
В тех случаях, когда свидетель не может, согласно своему желанию, воздержаться от показания, т. е. вынужден дать, требуемое показание можно назвать вынужденным. Дальнейшее его изучение может получить двоякое направление: или такое обстоятельство не отразилось на показании, и значит, исследователь может пренебречь им; или оно носит на себе следы своего искусственного происхождения, т. е. следы влияния чужой мысли. В последнем случае можно часто признать его зависимым показанием и, следовательно, пользоваться теми принципами и методами различения зависимых показаний от независимых, которые уже были указаны выше.
Впрочем, показание может быть вынуждено различными способами, например, путем внушения или насильственного давления.
Вынужденные показания часто возникают под влиянием внушения; оно прививает воспринимающему лицу идеи, чувства или эмоции без участия его воли и нередко даже без ясного с его стороны сознания, заставляет его говорить то, что хочет за него другой, хотя бы самому воспринимающему его показание и казалось самопроизвольно данным. Более или менее явно выраженное ожидание опрашивающего и самая постановка вопроса может уже внушать свидетелю то направление, в каком он «должен» ответить. Такая форма показания часто лишает свидетеля возможности придать ему индивидуальный характер, а иногда выпытывает у него сведения, которые он хорошо не помнит или не знает и при сообщении которых он впадает в ошибки[600]. Показания подобного рода можно встретить, например, в старинных и даже позднейших процессах о колдунах и ведьмах; папы, проповедники и другие лица внушали населению веру в их сношения с дьяволом или поддерживали ее, а инквизиторы принимали простые доносы на них, не требуя доказательств, чем и благоприятствовали появлению внушенных показаний; люди подавали их иногда из самозащиты: они обвиняли другого для того, чтобы оградить себя от такого же обвинения. В древности и в Средние века некоторые уверяли, что «видели», как благодаря чудесной силе заклинания или молитвы духи выходили вон из одержимого; остяки и тунгусы и теперь еще «видят», как духи покидают шамана, и т. п.[601]
Вынужденное показание вызывается и более или менее насильственным давлением. Показания, которые вымогала, например, инквизиция или наша Тайная канцелярия, уже по самому способу своей подачи далеко не всегда могут внушать доверие: сделанные под влиянием пытки и инстинктивного стремления избавиться от нее, они часто содержат недостоверные оговоры третьих лиц, даже мнимые признания в собственной виновности. Григорий Турский рассказывает, между прочим, что по случаю смерти в 580 г. двух сыновей известной Фредегунды их сводный брат Хлодвиг был обвинен в том, что он причинил их смерть при помощи двух женщин через посредство злых чар; одна из них была подвергнута пытке, пока не созналась в своей «вине», и была сожжена, несмотря на то что до смерти успела отказаться от своего признания, и т. п.[602]
Все сказанное выше об отдельных показаниях можно, конечно, более или менее относить и к целым совокупностям их, т. е. к рассказам. Само собою разумеется, однако, что чем сложнее рассказ, тем более он может оказаться достоверным или недостоверным: в пределах данной совокупности показания могут взаимно подкреплять или контаминировать друг друга, да и та комбинация, которая им придается, может иметь разное значение. В самом деле, комбинация показаний может быть правильной, но она часто оказывается и неправильной. В том случае, например, если свидетель стремится, не искажая правды, представить ее, однако, в таком виде, чтобы произвести большее впечатление на воспринимающего, он уже придает рассказываемому обманчивую форму, способную ввести его в некоторое заблуждение; тот, кто определяет, например, военные силы, может произвести разное впечатление, смотря по тому, исчисляет он их по дивизиям, батальонам или еще менее значительным частям войск, которых соответственно окажется больше в итоге, и т. п. Самая форма рассказа может усиливать источники ошибок, рассмотренных выше. Действительно, в рассказе о факте свидетель может относиться к нему более «свободно», чем в отдельном показании о нем; менее сосредоточивает свое внимание на чем-либо одном, легче переходит от одного к другому, больше опирается на память, дает больший простор своему воображению и т. п. Вообще, рассказывая о факте, свидетель должен, например, начать его с описания того, а не иного из его моментов, затем перейти к следующему и т. д.; но при таких условиях он может допустить большее число пробелов в запоминании своих восприятий и их высказывании, чаще вносит в рассказ свои собственные переживания или оценку, легче искажает факт под влиянием тех или иных побуждений, тенденций и т. п. С такой точки зрения, например, отрывочные записи, делаемые изо дня в день в дневниках, оказываются более надежными, чем целые рассказы, встречающиеся в автобиографиях; в последнем случае свидетель сливает многие показания в одно целое, что и может породить новые ошибки, обусловленные самой формой принятого им рассказа.
Итак, при изучении генезиса показаний или образованных из них рассказов приходится обращать особенное внимание на те из них, которые называются свидетельскими, — ведь их происхождением легко объяснить достоверность, а отчасти и недостоверность зависящих от них известий или пересказов. В самом деле, верность передачи состоит в возможно более точном воспроизведении и правдивого, и неправдивого показания или рассказа; следовательно, известие или пересказ сами по себе не могут отличаться большею достоверностью или недостоверностью, чем то показание или тот рассказ, содержание которого передается, если только сам посредник не внес каких-либо изменений в известие или пересказ, не обнаружил своего отношения к содержанию передаваемого и т. п.
Такая оценка может иногда оказаться довольно удачной. В самом деле, некоторые известия, пожалуй, обладают самостоятельным значением в качестве правдивых оценок передаваемых в них фактов.