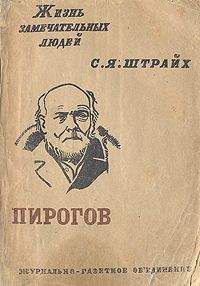Николай Пирогов - Из Дневника старого врача
(А. О. Армфельд, стр. 140 и сл.). Вот откуда близость М. к семье П. и его влияние на судьбу великого ученого. )
Непременно предопределено было Е. О. Мухину повлиять очень рано на мою судьбу. В глазах моей семьи он был посланником неба; в глазах 10-летнего ребенка, каким я был в 1820-х годах нашего века, он был благодетельным волшебником, чудесно исцелившим лютые муки брата. Родилось желание подражать; надивившись на доктора Мухина, начал играть в лекаря; когда мне минуло 14 лет, Мухин, профессор, советует отцу послать меня прямо в университет, покровительствует на испытании, а по окончании курса он же приглашает вступить в профессорский институт. И за все это чем же я отблагодарил его? Ничем. Скверная черта, но она не могла не проявиться во мне. Почему,- скажу потом. Si la jeunesse savait! Теперь бы я готов был наказать себя поклоном в ноги Мухину; но его давно и след простыл. Si la vieillesse pouvait! Так на каждом шагу придется восклицать то же самое. Даже не верится,- я ли был тогда на моем месте.
Отец, вняв совету Е. О. Мухина, тотчас же взял меня из пансиона и нанял для приготовления меня к университету, по рекомендации секретаря правления (кажется, Кондратьева, наверное не знаю), студента медицины, кончавшего курс, Феоктистова, порядочную дубинку, впрочем доброго и смирного человека. Я расстался с моими школьными товарищами, еще накануне игравшими со мною в саду в солдаты, причем я отличился изумительною храбростью, разорвав несколько сюртуков и наделав немало синяков; прощаясь, я не мог не заметить насмешливой зависти, с которою товарищи слушали мои рассказы о предстоящем поступлении в студенты; заметив же это,-чтобы подразнить завистников,- кой-что и прихвастнул.
Занятия с Феоктистовым, студентом из семинаристов, поселившимся у нас в доме, ограничивались латинскою грамматикою, переводами с латинского и кое-чем еще.
Что же я был такое за штука за несколько дней до вступительного университетского экзамена? Нравственность моя была не так распущена, как прежде; я сделался сдержаннее, перестал ходить тайком для беседования с писарями и кучерами; но я много знал такого, чего в мои лета не следовало бы знать; чувственность моя была также слишком рано развита.
Знания были менее чем ограниченные для моего возраста; вкус к искусствам мало развит,- только любовь к изящному слову и стиху была сильна; с другой стороны, остались неутраченными еще и детская наивность, и детская вера, и любовь к занятию и труду.
Вера была, как и прежде, в первом детстве, чисто обрядная и формальная; наивность детская была еще так велика, что я с наслаждением слушал еще сказки Прасковьи Кирилловны, крепостной служанки матери, плотной, коренастой девки, с толстыми, красными, как гусиные лапы, руками, с истыканным до невероятности оспою и усеянным веснушками лицом, но мастерской сказочницы,-и я как теперь помню ее две сказки: одну-о Воде-Водоге, так названном потому, что родился от какой-то чудесной воды, данной волшебницею его матери; а другую - о трех человечках: белом, черном и красном.
Вод-Водог воевал с разными лицами, всегда сопровождаемый целым зверинцем разных животных, пойманных им на охоте; во время опасности он обращался к ним с криком: "охотушка, не выдай!" И звери бросались опрометью на неприятеля. А три человечка были посланцы старой бабушки (Яги); она лежит, как следует, на печке; к ней приходит, маленькая внучка. "Что же ты видела по дороге?"-спрашивает бабушка.-"Видела я, бабушка, видела я, сударыня,- отвечает внучка,- белого мужичка, на беленькой лошадке, в беленьких саночках".- "То мой день, то мой день,- говорит глухим басом бабушка.- А еще что?"-"Видела я, бабушка, видела я, сударыня, черного мужичка, на черненькой лошадке, в черненьких саночках".- "То моя ночь, то моя ночь. Еще что?" - "Видела я, бабушка, видела я, сударыня, красного мужичка, на красненькой лошадке, в красненьких саночках".- "То мой огонь, то мой огонь,- заревела бабушка.-Говори, еще что?"-"Видела я, бабушка, видела я, сударыня, что у вас ворота пальцем заткнуты, кишкою замотаны".- "То мой замок, то мой замок. Ну, а еще что?" - рычит уже бабушка.- "Видела я, бабушка, видела я, сударыня, у вас в сенях рука пол метет".- "То моя слуга, то моя слуга. Еще что? - говори скорей!" - огрызнулась бабушка.- "Видела я, бабушка, видела я, сударыня, тут, возле вас голова чья-то висит у печки".-"То моя колбаса, то моя колбаса!"-заревела и заскрежетала зубами бабушка, схватила внучку,- и уже непомню, что сделала: съела ли, или в печь бросила.
Откуда наша Прасковья Кирилловна брала эти побасенки, одному богу известно; читать она не умела; верно,- одною наслышкою; мне потом нигде не приходилось читать слышанные от нее сказки, и, я думаю, она составляла сама и импровизировала, компилируя из нескольких, слышанных ею прежде. Верно, память у нее отличная; я помню, от нее слыхал и разные стихи, как, например, сатиру на приезд шведского посланника в Москву:
Солнце к вечеру стремится,
Тьма карет в вокзал катится и проч.
Часто, часто приходилось мне потом повторять моим и чужим детям сказки Прасковьи о трех мужичках, и даже с тою же интонацией в голосе, с которою Прасковья старалась наглядно мне изобразить свирепую бабушку и наивную внучку. И всегда сказки Прасковьи Кирилловны производили эффект на слушавших меня детей.
Другая черта, свидетельствовавшая о моей детской наивности в ту пору, была привязанность к моей старой няне. Эта замечательная для меня личность называлась Катериною Михайловною; солдатская вдова из крепостных, рано лишившаяся мужа и поступившая еще молодою к нам в дом, слишком 30 лет оставалась она нашим домашним человеком, хотя и не все это время жила с нами; горевала вместе с нами и радовалась нашими радостями. Я сохранил мою привязанность, вернее,- любовь к ней до моего отъезда из Москвы в Дерпт. Видел ее и потом еще раза два; но в последние годы она начала сильно зашибать; и прежде это добрейшее существо с горя и с радости иногда прибегало к рюмочке,но уже одна рюмка вина сейчас выжимала слезы из глаз. "Михайловна заливается слезами" - это значило, что Михайловна, с горя или с радости, выпила рюмку. Мы - и дети, и взрослые - все это знали, и, зная, иногда с нею же плакали, не зная о чем. Все существо этой женщины было пропитано насквозь любовью к нам, детям, вынянченным ею.
Я не слыхал от нее никогда ни одного бранного слова; всегда любовно и ласково останавливала она упрямство и шалость; мораль ее была самая простая и всегда трогательная, потому что выходила из любящей души. "Бог не велит так делать, не делай этого, грешно!" - и ничего более.
Помню, однакоже, что она обращала внимание мое и на природу, находя в ней нравственные мотивы. Помню, как теперь, Успеньев день, храмовой праздник в Андроньевом монастыре; монастырь и шатры с пьяным, шумящим народом, раскинутые на зеленом пригорке, передо мною, как на блюдечке, а над головами толпы черная грозовая туча; блещет молния, слышатся раскаты грома. Я с нянею у открытого окна и слышу, говорит она: "народ шумит, буянит и не слышит, как бог грозит; тут шум да веселье людское, а там, вверху, у бога свое".
Это простое указание на контраст между небом и землею, сделанное кстати любящею душою, запечатлелось навсегда, и всякий раз как-то заунывно настраивает меня, когда я встречаю грозу на гулянии. Бедная моя нянька, как это нередко случается у нас с чувствительными простыми людьми, начала пить, и, не перенося много вина, захирела, и так, что собралась уже умирать; не знаю уже почему, но решено было поставить промывательное; я был тогда уже студентом и в первый раз в жизни совершил эту операцию над моею нянею; она удивилась моему искусству и после сюрприза тотчас же объявила: "ну, теперь я выздоровлю". Через три дня она, действительно, поднялась с постели и жила еще несколько лет [...].
Говоря о чисто детской наивности, памятной мне в то время, как готовился уже к изучению медицины, не забуду напомнить о себе и еще трех, занимавших меня тогда и нравившихся мне, вследствие этой же самой ребяческой простоты, знакомых. Это были Григорий Михайлович Березкин, Андрей Михайлович Клаус и Яков Иванович Смирнов. Первые оба - из врачебного персонала, старые сослуживцы московского воспитательного дома; оба не доктора и не лекаря.
Березкин, циник, с заметною наклонностью к спиртным напиткам, занимал меня рассказами, очевидно, иностранного (немецкого) происхождения о Петре первом. "Мы должны, говорят немцы,- так сказывал мне Березкин,- богу молиться на Петра да свечки ему ставить,- вот что". Из медицины Григорий Михайлович сообщал мне также что-то тогда меня крепко интересовавшее, но уже не припомню, что именно; подарил какой-то писанный на латинском языке сборник с описанием, в алфавитном порядке, растительных веществ, употребляемых в медицине; я много узнал и наизусть запомнил научных терминов: emeticum, drasticum, diureticum, radix ipecacuanhae и т. п.
За год и более до вступления на медицинский факультет я уже знал массу названий и терминов, и это мне много пригодилось впоследствии. Но детская привязанность к словоохотному Березкину у меня основывалась, конечно, не на расчете профитировать и от него что-нибудь, а на потешавших меня шуточках и прибауточках; ими изобиловала наша беседа.