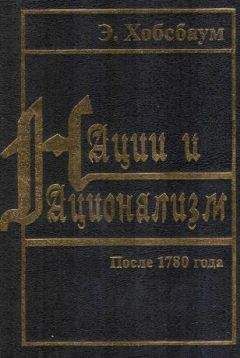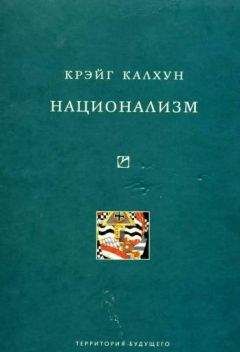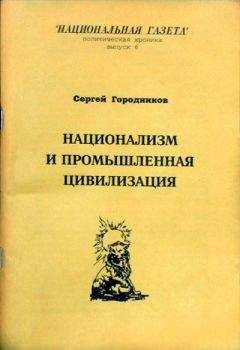Андрей Тесля - Первый русский национализм… и другие
Тем самым меняется и перспектива: обществу надлежит конституироваться, стать тем, чем оно должно быть – «органом самосознания», обрести полноценную субъектность, дабы государство могло перестать быть абсолютным и одновременно разрушительным. Разрушительность современного государства вытекает, по мысли Аксакова, из того, что оно вынуждено быть «всем», брать на себя функции отсутствующего общества – но оно способно действовать только формально, схватывает только внешнюю сторону отношений и не способно к творчеству, согласному с требованиями народа. Вместо того чтобы чего-то требовать от государства, например расширения самоуправления, надлежит в первую очередь заботиться о развитии общественности – в противном случае государство неизбежно будет захватывать все новые и новые сферы социальной жизни, поскольку к тому его подталкивают существующие нужды, ведь для того, чтобы самоуправление стало реальным, недостаточно государственной воли, как не хватило ее, чтобы создать дворянское самоуправление. Наиболее ценное в социально-политической мысли славянофилов – обращение внимания на проблему «общества» и «общественного действия».
В то же время сохраняется и концептуальная роль «народа»: он позволяет совмещать апелляцию к прошлому, к традиции с одновременным активным участием в быстро меняющейся жизни, не обрекая на роль ретроградов – именно за счет своей «немоты». С. Ф. Шарапов, сотрудник «Руси», пытавшийся до конца своих дней выступать в роли продолжателя И. С. Аксакова, в письме Е. М. Феоктистову от 8 апреля 1888 года, отсылая первый номер «Русского дела», писал: «Мое направление не либеральное, т. е. не разрушительное, в этом нет сомнения, но и не консервативное, т. е. не охранительное. Как говаривал Иван Сергеевич, охранять нам нечего. Идеи самодержавия, народности, веры слишком прочны и в охранении не нуждаются, ибо хранит их русский народ – сила побольше газетной; наша нечастная современность, которую всеми силами охраняют “консерваторы”, – да куда же она годится? Эта современность ведет страну прямо к застою и разложению» (цит. по: Фетисенко, 2012: 416). Иными словами, именно постольку, поскольку «народ» можно принять за константу, он допускает критическое отношение как к современности, так и к прошлому – поскольку любое прошлое имеет оправдание лишь в совпадении с «духом народа», а не само по себе.
Политическое и правовое у славянофилов оказываются не тождественными государству – они первичны по отношению к нему, и именно в этой перспективе становится понятным странное безразличие славянофилов к вопросам государственного устройства, государственного управления – с их точки зрения это вопросы технические, вторичные по отношению к фундаментальным политическим решениям, следующие за ними, и потому решение первых естественным образом переопределит государственные реалии. У славянофилов мы можем видеть в обнаженной форме связь политического с теологическим – собственно, этой обнаженностью мысли и вызван интерес того же Шмитта, который, анализируя политическое, обращается к европейским консерваторам XIX века: то, что в либеральной доктрине оказывается скрытым в области «неразличаемого», у консерваторов оказывается в пространстве говорения – поскольку для них речь идет о проблематизации «самоочевидного» и, следовательно, их контрстратегия вскрывает фундаментальные предпосылки. Право здесь – не техника, не некий набор норм, но действие (подобно тому, как Малиновский будет интерпретировать миф как действие, а не рассказ): нормы сами по себе не «техничны», как подчеркивает И. С. Аксаков в обстановке споров вокруг судебной реформы, – они несут в себе ценности, определенный культурный выбор. Отсюда – из страха ошибки – возникает сопротивление всякому «формальному» праву: чем в большей мере право будет опираться на практику, вырастать из сложившегося понимания справедливого и несправедливого, тем действеннее оно будет. В конечном счете всякое «формальное право» для славянофилов несправедливо – поскольку оно неспособно учесть многообразия реальности, загоняя ее в ограниченное число норм, и тем самым нарушает классическую аристотелевскую формулировку справедливости, поступая с неравными равным образом, мысля как тождественные нетождественные ситуации. Тем самым, чтобы право было справедливым (а справедливость для славянофилов куда большая ценность, чем юридическая правильность), необходимо, чтобы оно имело внеправовой регулятор, каковым выступает царь.
Этот частный случай позволяет глубже понять славянофильскую концепцию самодержавия. Если государство по определению формальная сила, то, чтобы она действовала осмысленно, необходимо, чтобы его глава был трансцендентен по отношению к нему – самодержец благотворен тем, что не является правительством, он не «часть государства», а его «глава», то есть личность – если к государству невозможно обратиться с этическим требованием, если закон невозможно просить или умалять, то личность способна дать личный отклик. Ю. Ф. Самарин в открытом письме к Александру II заявлял: «Если бы в сознании всех подданных Империи, просвещенных и темных, образ Верховной Власти не отличался более или менее отчетливо от представления их о правительстве, самодержавная форма правления была бы немыслима; ибо никогда никакое правительство не вознеслось бы на ту высоту, на которой стоит в наших понятиях Верховная Власть, и напротив, эта власть, ниспав на степень правительства, утратила бы немедленно благотворное обаяние своей нравственной силы» (Самарин, 1890: XIX).
В этом понимании самодержавия явственно проявляется дворянский характер славянофильства – типичная враждебность к бюрократии, к выстраиваемому Николаем I «полицейскому (регулярному) государству», где бюрократия заменяет дворянство в его роли исполнителя государственной воли, но реакция эта, фиксируя возникающее и быстро набирающее силу «бюрократическое государство», одновременно ищет ему альтернативу на пути «прямого правления», что проявится в странном и любопытном в концептуальном плане правлении Александра III, когда «реакция» использует формы, предвосхищающие будущие вождистские государства, а попытка мобилизации народных масс в последующее правление, равно как и стремление найти альтернативные формы источников информации и управления, через неформальные контакты и различные монархические партии и организации, окажется предшественником теории и практики «консервативных революций» XX века. Если первоначально славянофилы (1840– 1850-х годах) могут быть однозначно отнесены к либеральным направлениям мысли (в чем сходится большинство исследователей, см.: Цимбаев, 1986; Дудзинская, 1994), то позднейшее развитие славянофильства демонстрирует нарастающее напряжение между либеральными основаниями и возрастающим консервативным тяготением. Данное напряжение проявляется и персонально: если А. И. Кошелев сдвигается с 1860-х в сторону «земского либерализма» и остается на этих позициях вплоть до кончины в 1883 году, то для И. С. Аксакова характерна куда более сложная динамика, попытка примирить изначальную позицию с новым контекстом, обретшим достаточно жесткие очертания к 1870-м.
Суть «консервативного» сдвига позднего славянофильства (в связи с чем в ретроспективе само славянофильство зачастую начинает оцениваться целиком как направление консервативного плана) связана с трансформацией самого (европейского) консерватизма, претерпевающего в 1860-е годы радикальные изменения. До этого момента решающим противником консерватизма было национальное движение – национализм, опирающийся на демократическую в своей основе идеологию национального тела и обретения им политической субъектности, противостоял сложившимся политическим образованиям и властям (и в этом смысле консервативный лагерь в Российской империи, например, однозначно воспринимал славянофильство как противника, причем жесткость репрессий в отношении славянофилов была куда более однозначной и быстрой, чем аналогичные действия в отношении западников, в особенности если учесть малочисленность тогдашнего славянофильства). Позднее же славянофильство действует в ситуации, когда консервативная мысль и национализм все больше тяготеют к образованию идейных комплексов – и поскольку национализм выступает смысловым концептом, определяющим славянофильскую концепцию, то это вызывает смысловые подвижки славянофильства, попытки соединения названных идейных комплексов в новое целое.
2. Казусы
2.0. О русском консерватизме как о бездомности
Камнев В. М. Хранители и пророки. Религиозно-философское содержание русского консерватизма. – СПб.: Наука, 2010. – 470 с. – (Серия: «Слово о сущем»)
Главная тема книги впервые проговаривается отчетливо лишь в послесловии – обращая весь предшествующий текст в своего рода предуведомление и выводя его из рамок описательности. Этой темой оказывается бездомность, внешне парадоксальным для исследования консерватизма образом. Ведь консерватизм вроде бы как раз сосредоточен на тематике «дома», «отчего места», всегда предполагая, что есть куда возвращаться. Но в то же время в консерватизме есть и оборотная сторона – родившись как реакция на французскую революцию, он изначально существует с сознанием хрупкости традиции, с сознанием, что тот «дом», который есть, может легко быть разрушен (или, что, пожалуй, преобладает – разрушается в данный момент).
Отсюда и историчность консерватизма: он не тождественен принадлежности к традиции – он всегда начинается с ее осознания. Более того, традиции уже траченной или поставленной «под удар».