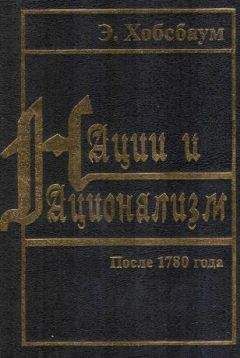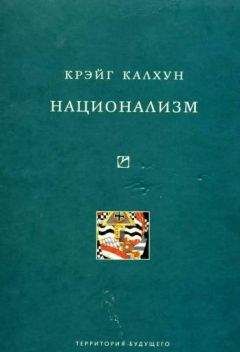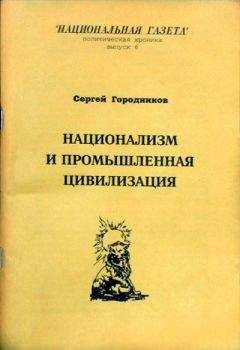Андрей Тесля - Первый русский национализм… и другие
Содержательный центр всей социальной реальности – народ. Собственно, для того чтобы он мог существовать и развивать заложенные в него потенции, и необходимо государство как внешняя, формальная скрепа, позволяющая избавиться народу от постоянной заботы о делах, которыми отныне ведает государство. Данная двухчленная схема была предложена К. С. Аксаковым, и он же первым фактически углубил ее, в статье «Опыт синонимов» (1857) разграничив понятия «публика» и «народ», понимая под «публикой» «фальшивый народ», «ряженых», некую промежуточную сферу, возникшую в результате петровского переворота – оторвавшихся от народа и существующих только за счет государства, только его ненародностью, и в то же время не являющихся собственно государством. Публичный взгляд отождествляет ее с народом – и государство взаимодействует именно с ней (не важно – в согласии или в противостоянии), принимая ее за народ (Аксаков, 2009: 237–238).
Ап. Григорьев, анализируя романы Загоскина, писал: «Для Загоскина <…> и того направления, которого он был дарови-тейшим представителем в литературе, в народе существовало только одно свойство – смирение. Да и притом само смирение не в славянофильском смысле полнейшей общинности и законности – а в смысле простой бараньей покорности всякому существующему факту» (Григорьев, 1876: 524). В этом противопоставлении «смирения» у славянофилов и у на первый взгляд близких к ним представителей «официального» лагеря важны выделенные Ап. Григорьевым смысловые оттенки, которые в дальнейшем, на протяжении 1860—1880-х годов, будут усиливаться, все более уводя славянофильское «смирение» от «покорности» в политическом плане (различие в этическом и религиозном плане изначально – для славянофилов «смирение» включено в другой тип религиозности, личной, – в противовес куда более традиционной, «неразмышляющей» религиозности, на которую ориентированы, например, М. П. Погодин или М. Н. Загоскин [22] ). «Смирение» понимается как сначала инстинктивное (применительно к поведению народа в древней русской истории), а затем и сознательное ограничение своей воли: образами подобного смирения в отношении власти станут персонажи одного из наиболее славянофильских произведений гр. А. К. Толстого «Князь Серебряный» [23] : боярин Дружина Андреевич Морозов и князь Никита Романович Серебряный. «Смирение» предстает как отречение от самовластия согласно знаменитой формуле К. С. Аксакова: «сила власти – царю, сила мнения – народу». «Народ» (и «общество» – в концепции Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова) добровольно отказывается от власти (что, собственно, и делает этот отказ моральным подвигом, в противном случае это было бы простой фиксацией бессилия), но при этом сохраняет за собой свободу мнения, и последнее становится силой, с которой власть обязана считаться, если желает оставаться властью «народной». Смирение в результате оказывается высшим напряжением воли, подвигом, то есть прямой противоположностью «покорности», поскольку это смирение не перед властью, а перед тем, ради чего и существует эта власть, – смирение, дающее силы быть свободным, «ибо страх божий избавляет от всякого страха», как говорил К. С. Аксаков в речи на обеде в честь севастопольского героя гр. Д. Е. Остен-Сакена в 1856 году. (Янковский, 1981: 203).
Это поведение и стремились практиковать сами славянофилы, реализуя «свободу слова и мысли», важнейшего права «земли» в славянофильской концепции, явочным порядком, как в случае с подачей адреса Московской думой в 1870 году. Тогда Ю. Ф. Самарин, в ответ на письмо кн. Д. А. Оболенского с описанием реакции Петербурга, писал: «Неужели ты думаешь, что мы все, и в особенности Черкасский, не ожидали такого впечатления, которое он произвел, и что никому из нас не пришло на ум все, что можно сказать о несвоевременности такого заявления»; но надо «воспитывать общество и вразумлять правительство, ставить вопрос и проводить его, обстреливать слух и облекать созревшее намерение в форму доклада. Наши дерзкие надежды озадачили и раздражили – пусть так, но сказанное слово оставляет след, а повторение того же слова подействует уже иначе и понемногу с ним свыкнутся» (цит. по: Дудзинская, 1994: 199). Аналогичным образом поступит в 1878 году Иван Аксаков, произнеся знаменитую речь против решений Берлинского конгресса, за которую он будет выслан из Москвы, а Славянское общество, одним из создателей которого он был в конце 1850-х и под чьим руководством оно действовало в наиболее напряженный период балканского конфликта в 1875–1877 годах, разогнано. Аксаков твердо осознавал вероятные последствия своего выступления (Тютчева, 2008: 540–541), что не помешало ему, тем не менее, сказать те слова, которые он почитал своим долгом произнести, а Кошелеву – опубликовать их в Германии. Однако славянофилы не ограничивались единичными выступлениями – в рамках той же позиции находятся и куда менее яркие, но требующие не единичных, а повседневных, регулярных усилий действия по заграничному бесцензурному книгоизданию Самарина и Кошелева (который неизменно отправлял их государю императору в сопровождении верноподданного письма, как он поступил и с изданием речи Аксакова), в публицистической деятельности Ивана Аксакова, за упорное отстаивание своего права говорить то, что думает, названного «страстотерпцем цензуры всех эпох и направлений» (Цимбаев, 2007: 440).
И тем не менее слабость схемы, предложенной К. С. Аксаковым, была очевидной – народ в ней оказывался безмолвствующим, «великим немым», который непонятен и, что куда болезненнее, и не может быть понят, поскольку голос принадлежит «публике»: остается только разгадывать, что же скрывается за молчанием народа – и это порождает восприятие всего исходящего равно от государства и от «публики» как «ложного», ненародного – и, следовательно, в сущности пустого. Последствия такого взгляда с очевидностью проявились в незаконченной статье К. С. Аксакова «О русской литературе», опубликованной посмертно в № 2 «Дня» 1861 года (газеты, издаваемой братом покойного, И. С. Аксаковым) и вызвавшей резкий отклик Ф. М. Достоевского, писавшего в статье «Последние литературные явления: газета “День”» из «Ряда статей о русской литературе», что тем самым взгляд славянофилов становится неотличимо похожим на созданный ими шаржированный образ «западника», ведь фактически отрицаемой, объявляемой пустой и ненужной, оказывается вся русская культура последних полутора столетий, вся история со времен Петра оказывается ошибкой – или если и неизбежным историческим этапом, то неспособным породить нечто действительно народное. Ф. М. Достоевский полемически остро называл эту позицию другой формой нигилизма, – где во имя необнаруживаемого, едва ли не принципиально не фиксируемого объекта отвергается все наличное: и в такой перспективе уже не особенно важно, отвергается ли существующее ради прошлого или будущего – куда более существенным выступает всеобщий характер отрицания, оставляющий в настоящем, наличном лишь пустоту, nihil. Эта полемика имела содержание, существенно выходящее за пределы спора о литературе, поскольку Достоевский точно и болезненно для славянофилов фиксировал коренное затруднение их позиции – отсутствие субъекта, который мог бы быть активным носителем и выразителем того, что для славянофилов выступало под именем «народности».
Отмеченное концептуальное затруднение фиксировалось и самими славянофилами – и в начале 1860-х годов И. С. Аксаков формулирует концепцию, призванную данное затруднение снять [существенную роль в формировании концепции «государство – общество – народ» сыграл Ю. Ф. Самарин, однако ключевые тексты принадлежат И. С. Аксакову, оставившему единственное целостное ее изложение]. Он предлагает трехчленную формулу: «государство – общество – народ», в которой «общество» понимается как «орган осмысления народного бытия», тот субъект, который обладает самосознанием и способен перевести «народность», органически данную в «народе», на язык сознания – в обществе народ осознает самого себя, обретает сознание и сознательность. Продуктивность этой концепции, помимо прочего, и в том, что она позволяет ответить на существенный упрек «почвенников», не говоря уже о представителях «западнической» ориентации: реформы Петра и последующая эпоха также получают свой положительный смысл – они теперь осмысляются как время формирования «общества», время подготовки общественного самосознания, – отсутствием которого и объясняется и гипертрофия государства в «петровский период», и неспособность допетровского государства разрешить проблемы, перед ним стоявшие: теперь последняя ситуация интерпретируется как следствие бессознательности народа, не сумевшего найти «органическое» решение и вынудившее государство, ради спасения себя и народа, пойти на реформы [24] .