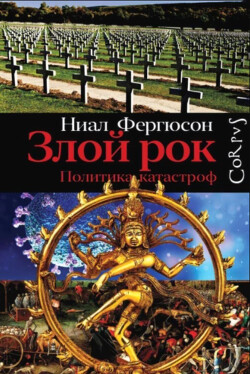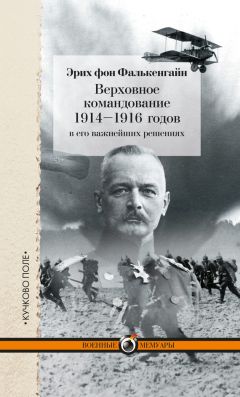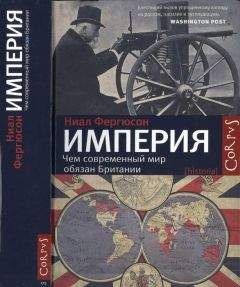Горечь войны. Новый взгляд на Первую мировую - Фергюсон Ниал (Нил)
В сущности, все эти оправдания инфляции были в ходу уже в 1920-х годах. В июне 1922 года, на встрече с американским послом в Берлине, Ратенау (тогда бывший министром иностранных дел) и промышленник Гуго Стиннес предложили два разных, но не противоречащих друг другу объяснения германской политики:
[Ратенау] утверждал… что инфляция не вреднее для экономики, чем ограничение арендной платы, и что она отбирает средства только у имущих и отдает неимущим, а это — вполне уместная мера в такой бедной стране, как Германия. Стиннес… заявил, что речь идет о выборе между инфляцией и революцией — и что он предпочитает инфляцию {2166}.
Стиннес считал инфляцию “единственным способом обеспечить населению постоянную занятость, требующуюся для выживания нации” {2167}. “Дать работу трем миллионам солдат, вернувшихся с войны, было политически необходимо, — позднее объяснял он Хафтону. — Выбор был прост: кошелек или жизнь” {2168}. Аналогичным образом высказывался и Мельхиор:
В тот момент это было необходимо с политической и социальной точки зрения и… если бы инфляцию удалось взять под контроль, экономика в долгосрочной перспективе не пострадала бы. Никто не планировал раскручивать инфляцию… Но она помогала создавать новый капитал, который позволял промышленности давать работу возвращающимся с фронта солдатам {2169}.
Он также уверял, что убыточность государственных железных дорог позволяла “не увольнять 100 тысяч работников… которые, оказавшись на пособии, могли бы обратиться к политическому радикализму” {2170}. Макс Варбург в ноябре 1923 года высказался еще яснее: “Остановить инфляцию значило бы вызвать революцию” {2171}. Так думали не только предприниматели. Профсоюзный функционер Пауль Умбрейт, выступая против сокращения социальных расходов, фактически говорил о том же: “Если экономические и социальные последствия друг другу противоречат, предпочтение следует оказывать социальным интересам” {2172}.
Между тем есть серьезные причины сомневаться в справедливости этих аргументов. Инфляция причиняет намного больше вреда, чем считали Грэм или Лаурсен с Педерсеном. Итальянский экономист Костантино Брешиани-Туррони, автор одной из первых серьезных работ на эту тему, писал в 1931 году, что инфляция приводила к падению производительности труда, нерациональному распределению ресурсов, “сильнейшей разбалансировке экономического механизма” и “рекордному для мирного времени разорению определенных общественных слоев”, а также разрушала здоровье и мораль народа:
Она лишала смысла бережливость… Она уничтожала… моральные и интеллектуальные ценности… Она отравляла германский народ, распространяя в обществе дух спекуляции и отвращая людей от честного труда. Она непрерывно порождала политический и моральный хаос… [Более того,] укрепляя экономические позиции тех слоев общества, которые были опорой “правых” партий — то есть промышленников и финансистов, — она играла на руку политической реакции и антидемократическим силам {2173}.
Хотя в целом Кейнс одобрял инфляцию, у него также можно встретить похожие высказывания. В “Экономических последствиях” он, как известно, отмечал (приписывая эту точку зрения Ленину), что “наилучшим средством, чтобы расстроить капиталистическую систему, является разложение системы денежного обращения”:
Непрерывно производя все новые выпуски кредитных билетов, правительство может тайно и незаметно конфисковать значительную часть богатств своих подданных. Посредством такого приема оно не только конфискует, но конфискует произвольно; и между тем как этот процесс многих доводит до нищеты, он также обогащает некоторых… Зрелище такого произвольного перераспределения богатств подрывает не только обеспеченность порядка, но и веру в справедливость существующего распределения богатств. Те, кому эта система приносит неожиданную прибыль… превращаются в спекулянтов, которые становятся предметом ненависти буржуазии, разоренной ростом бумажного обращения, равно как и пролетариата. По мере того как увеличивается количество бумажных денег… все постоянные отношения между должником и кредитором, которые образуют в конечном счете основу капитализма, приходят в такое внутреннее расстройство, что теряют почти всякий смысл… Не может быть более хитрого, более верного средства для того, чтобы опрокинуть основу общества… В России и Австро-Венгрии этот процесс достиг такой степени, на которой деньги для внешней торговли практически стали непригодны… Здесь бедствия существования и разложение общественного порядка слишком явны, чтобы нужно было анализировать их; эти страны уже на деле переживают то, что для прочей Европы еще находится в области ожиданий [64] {2174}.
Результаты современных исследований в основном подтверждают эти выводы. В частности, в работе Линденлауба, где подробно анализируется ситуация в машиностроительной отрасли, ставится под сомнение идея о том, что инфляция стимулировала инвестиции. Судя по всему, рост цен (точнее, неуверенность в будущих ценах), наоборот, отпугивал инвесторов. Новые капитальные проекты машиностроительные компании начинали в 1920 году, когда цены стабилизировались, причем в 1921 году, после возобновления инфляции, многие из этих проектов были заброшены {2175}. В любом случае трудно отрицать, что все преимущества, которые могла приносить инфляция в 1921 и 1922 годах, были при гиперинфляции нивелированы резким спадом производства и занятости. Кроме того, как убедительно доказывает Балдерстон, именно разрушительное воздействие инфляции на банковскую систему и на рынок капитала было непосредственной причиной того, что Германия особенно сильно пострадала от Великой депрессии 1929–1932 годов {2176}. Таким образом, с точки зрения экономики, издержки инфляции явно перевешивали ее выгоды.
Социологические объяснения различий между результатами, к которым пришли разные страны, слишком упрощают ситуацию. Они склонны игнорировать тот факт, что с точки зрения государственного бюджета основной конфликт шел между держателями государственного долга и налогоплательщиками — и что между этими группами не было четкой границы. Война значительно увеличила количество держателей облигаций во всех странах. Если проанализировать подписку на все девять германских военных займов, окажется, что в почти половине случаев речь идет о сумме до 200 марок. Для последних четырех займов доля мелких подписок составляла в среднем 59 % {2177}. В 1924 году держателями примерно 12 % британского внутреннего государственного долга были мелкие вкладчики {2178}. Кроме того, часто забывают, что многие из крупных держателей облигаций военного займа были не частными инвесторами, а институциональными, которые, покупая эти облигации, выступали в интересах мелких клиентов. Так действовали страховые компании, сберегательные кассы и так далее. Скажем, 5,5 % британского долга в 1924 году принадлежали страховым компаниям, а 8,9 % — расчетным банкам.