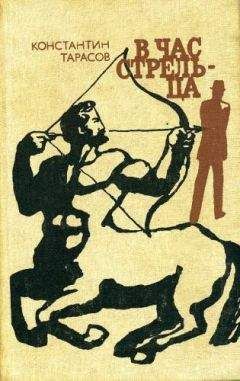К Тарасов - Отставка штабс-капитана, или В час Стрельца
Михал замолчал, услышав шаги на лестнице. Появился слуга и сказал:
- Паныч, вас зовет отец.
- Обождите меня, - попросил Михал. - Побудьте здесь, вот моя комната пройдите. Я скоро вернусь.
Еще слышался перестук его каблуков по ступеням, как отворилась дверь, возле которой мы беседовали, и на этаж вышла Людвига.
- Я слышала ваш разговор, - сказала она. - О, не подумайте, что я подслушивала, это произошло случайно. Он всегда был равнодушен к Северину. Они и денег пожалели. Им бесполезно говорить...
Ну, влип, с досадой подумал я.
- Мой брат боролся против вас, - говорила Людвига. - Я за него молилась, я просила молиться ксендза. В этом доме только мы были друзьями. Остались друзьями навек! Я не верю, что он ушел. Я не могу надеть траур. Господи, я готова отдать жизнь, чтобы хоть год, хоть один день побыть вместе... Еще день назад он был здесь, и было весело, и наш дом казался мне прелестным. А сейчас - место скорби... Отзвуки шагов брата... последних шагов... и страстное ожидание увидеть его тень... хотя бы тень... Вчера взяла стакан и вижу на дне отражение - Северин... Нам следовало остановить его, удержать, оставить дома, упросить, а получилось, что мы безразличны... это обидно для страдающего сердца... Ангел-защитник спасал брата в бою пуля обходила его. Но и что? Легко ли ему было? Надо уходить, убегать на чужбину, в безызвестность, из тех мест, где прошло детство и где нам, несмелым, негордым, благоприятствует судьба... Мы остаемся благоденствовать, а он должен мыкаться по свету, не имея крова и очага... Об этом не говорили - это чувствовалось, окутывало всех, как туман; дышалось тяжело, все были печальны... Он спешил уйти, потому что хотел остаться... Да, теперь я это понимаю... Но поздно... Вы сказали - Северин убит. Молчите! Молчите! - остановила меня Людвига, видя мое желание возразить. - Брат был волевой, деятельный, серьезный, он был герой. Ночами я не смыкаю глаз. Вы можете думать, что я не владею собой, что мной движет несчастье, нервное потрясение, женская чувствительность... (Она не ошибалась, я думал именно так.) Нет, нет, только боль и любовь. Вы что-то знаете, чего мы не знаем. Скажите, кто, кто отнял его у нас?
- Людвига, - сказал я отеческим тоном. - Не волнуйтесь. Вы неправильно поняли мои слова. Друзья Северина утверждают, что ваш брат убит, - сказал я, сознавая, что говорить об этом не следовало. Я смягчил грубость последней фразы, добавив: - Наверное, они неправы. Но если им на минуту поверить, то возникает мысль, что на вашего брата напали ради денег, напал тот, кто знал дом, привычки и правила семьи, местность. Кто-то из живущих в доме, - сказал я.
- В доме! - повторила Людвига и лишилась чувств. Глаза ее закатились, она зашаталась, ноги у нее подкосились, и девушка рухнула на пол.
Я совершенно растерялся, стал нелепо метаться по этажу, вбегать в комнаты - воды не было; несколько раз воззвал: "Людвига! Людвига!" - и бросился вниз. На половине лестницы я сообразил, что слуг звать нельзя, что будет переполох; я проклинал свою разговорчивость и любопытство; но что-то следовало делать, и я кинулся обратно.
Людвига приподнималась с пола. Я ей помог. Она стояла пошатываясь, прижав к лицу ладони. Затем она на меня взглянула, вскрикнула: "Как вы смели!" - и резко отшатнулась, при этом ударившись спиной о стену. Даже картина, на которой шляхта уничтожала татар, дрогнула. Людвига жалобно простонала и повалилась на меня, а я, не придумав другого выхода, опустил ее на пол.
Тут, как назло, заскрипели ступени, появился Михал и увидал эту безобразную сцену.
- Вы и ей не удержались рассказать? - спросил он хмуро. - Ах, господин штабс-капитан, по вашей милости отец еле дышит - в постель пришлось уложить; вот и сестрицу свалили. Этак вы нас быстрее замучаете, чем Сибирь. А деньги, я хочу сказать, в кармане оставались - проверили, никто не брал.
Спотыкаясь на ступенях, я сбежал вниз, чуть не сбил с ног Красинского, стрелой вылетел из дома, вскочил в седло и вонзил в Орлика шпоры. "К черту! К черту! - говорил я себе. - Упаси меня бог от самоубийц, их сестер и братьев".
Все пять верст я промчал галопом, изморил коня и вошел в избу разбитый и злой.
XXII
Федор и мельник мирно завтракали за столом, центром которого, как Земля в системе Птоломея, служил пузатенький кувшин. "Пьешь?" - спросил я Федора. "Ваше благородие, отчего же нельзя? Праздник вчера был, в порядок надо прийти". - "Каков же ты вчера был? Лежал, верно, под забором, - укорил я его. - Хорош у меня денщик. Только я за порог - ты за стакан". - "Ваше благородие, что ж тут, капля, - не смутился Федор. - Для пользы же самочувствия". - "И в строй пойдешь сивухой дышать?" - "Не впервой", ответил Федор. "Нашел чем хвалиться, - сказал я. - Стыдился бы. Ну ладно, налейте мне".
Мельник вскочил, схватил с полки кружку и поставил на стол. Федор налил из кувшинчика мутную водку.
- Во имя Пречистой Девы! - сказал Федор.
- Во имя Девы! - повторил хозяин.
- О нет! - воскликнул я, вспоминая обмороки панны Людвиги. - Только не за Деву.
Водка была омерзительная, гаже я никогда не пробовал, но состояние мое сразу переменилось к лучшему.
Ну вот, конец приключениям, подумал я. Займусь делами. Днем отобедаем у Купросова - уж там никто не застрелится. Потом с лекарем в шахматы поиграем, а завтра в путь. Да и верно, чего лезть в чужую жизнь, на то исправник есть.
- Что, хозяин, - спросил я, - вы исправника боитесь?
- Кто ж его не боится, - отвечал старик. - Исправник - царь, что скажет, то и правда.
- А Володкович его боится?
- По теперешним временам и он должен бояться. Исправник скажет: помогал мятежникам - иди, докажи, что не помогал. И мстительный, гад. Тут недалеко околица Заполье есть, разорил полностью, чего-то наврал, написал, приехали казаки, разорили дома, кого разогнали, кого увели к черту на кулички. А ничего дурного те люди не делали - всем известно. Сам Володкович нельзя сказать что злобный; делай, что он скажет, и будет хорошо. А вот его отец, это значит, дед Северина, еще на моей памяти было, - тот любил расправу.
- А Северин чем их лучше?
- Он среди них понимающий. Других людей хамами не считал. Но жизнь такая: хорошим людям бог мало отмеряет жить, негодникам - долго...
В этот момент до нас донесся бешеный топот коня, кто-то мчался, словно от смерти убегал, и стало ясно, что мчится он к нам.
Мельник поднялся к окну.
- Красинский! - сказал он вслух.
- А-а! - тоскливо протянул я, предчувствуя неприятность.
Стало слышно, как всадник осадил коня, соскочил на землю и бегом бежит в дом.
Господи, да не умерла ль она, подумал я, пугаясь.
Дверь распахнулась, в избу свирепо вошел Красинский.
- Вы... вы... вы - подлец! - выкрикнул он, заикаясь от злобы. - Вы оскорбили мою невесту... Холопские сплетни, как сорока, носите...
- О чем вы кричите? - спросил я. - Успокойтесь поначалу.
Приглашение успокоиться привело Красинского в исступленную ярость.
- Я спокоен, сударь, - закричал он, наливаясь кровью. - Вы отлично понимаете. Я бы мог простить. Но вы унизили Людвигу, назвали убийцами всех...
- Вы что-то путаете, - возразил я.
- Это вы путаете, господин как-вас-там. И наглости есть пределы, я их укажу.
- Убирайтесь вон, - сказал я. - Иначе я скажу денщику вас выгнать.
- Я вас убью! - завопил Красинский, шагнул к столу и швырнул мне прямо в лицо тряпичную перчатку, почему-то влажную.
Затем он повернулся на каблуках, выскочил из избы и, крича: "Ждите секундантов" - умчался.
- Ваше благородие, - вскочил Федор. - Да я сейчас в рот ему вобью эту гадость, - он схватился за саблю. - Да он ее сам сожрет. - И мой денщик кинулся к дверям.
- Назад! - закричал я. - Не сметь!
- Как не сметь? Петр Петрович, да вы что? - негодующе говорил денщик, притопывая от нетерпения. - Вам в лицо, георгиевскому кавалеру, тряпки швырять. Да я его к хвосту привяжу и по стерне. Что ж, так и оставим?
- Это мое дело! - мрачно сказал я. - А ты заруби на носу: ничего не видел, не слышал, и слова никому не пророни. Как рыба. А вы, - сказал я мельнику, - тоже не вздумайте говорить.
Лицо мое горело. Мне хотелось остаться наедине. Я послал Федора прогулять коня. Хозяин поспешил уйти вместе с ним. Я поднялся и зашагал из угла в угол. Если бы идиот Красинский ограничился криками, то вызов его был бы мне просто смешон. Но швырок перчаткой... в лицо, как холопу... Привыкли, сволочи, оскорблять мужиков. Сходило с рук... Ну, не спущу. Попомнишь, негодяй, эту перчатку, свирепея думал я. По-иному закричишь, как насажу на клинок...
Мысленно проколов Красинского не менее десяти раз, я успокоился и стал вычислять, когда прибудут секунданты. А их надо было найти, объяснить, убедить, и не каждый осмелится... Я решил, что появятся секунданты часа через полтора, самое раннее. Взяв лошадь Федора, я поехал к корчмарю, которого определил себе как самое осведомленное лицо из здешнего населения.
XXIII
Так же, как и позавчера, корчмарь при моем приближении выбежал к воротам, с таким же низким поклоном поздоровался, столько же детских лиц наблюдали за нами в окно. Я сказал, что хочу с ним побеседовать и что разговор наш будет секретный.