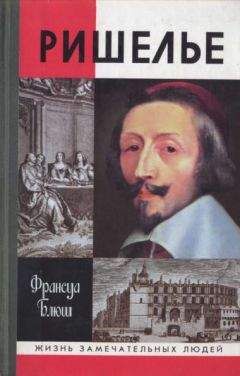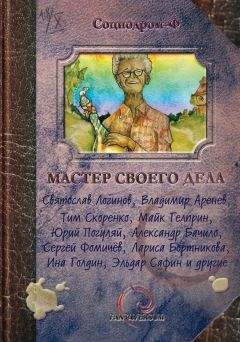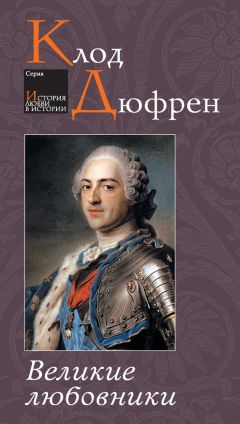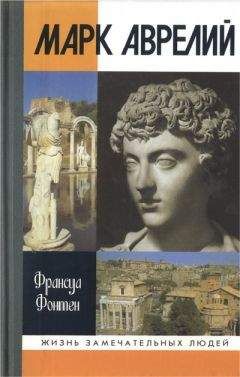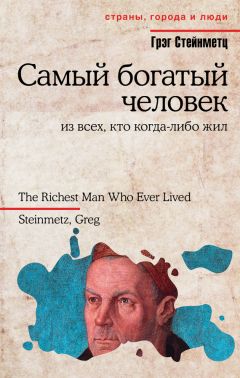Франсуа Блюш - Людовик XIV
Первые «волнения», называемые «старой Фрондой», — уже чистейшее безумие: ни победа при Лансе (20 августа 1648 года), ни славный договор в Мюнстере (24 октября) не помешают оппозиции — скорее наоборот, они подтолкнут магистратуру верховных судов, знать двора и де Гонди, коадъютора Парижа, восстать против королевы под предлогом защиты интересов короля и королевства от Мазарини. Парламент, ревностный хранитель основных законов, сам же их нарушает. Ибо верховная власть во Франции более неделима, и королева Анна Австрийская ее осуществляет от имени своего несовершеннолетнего сына. Нападать на власть регентши означало посягнуть на права короля.
Этот ребенок — король Франции — хочет быть монархом с абсолютной властью. Он знает, что Вестфальский мир, который унижает императора и ограничивает в правах Священную Римскую империю, — большое достижение. Он понимает и то, что бунт его народа, если иметь в виду выдвинутый предлог, — всего лишь ребячество. Название «Фронда» очень удачное, оно пародирует детскую игру. У Людовика XIV нет никаких оснований дистанцироваться от своей матери или своего крестного отца (даже если его каждодневная жизнь неспокойна, даже если он меняет все время место своего пребывания, даже если он спит на грязных и дырявых простынях). Фрондеры это чувствуют и злятся из-за этого, их политика направлена на то, чтобы представить в ином свете свой мятеж, убедить всех в том, что они хотят якобы вырвать короля из его окружения, считающегося вредным. Если бы юный король не был верен королеве-матери, все бы рухнуло: и этот мятеж, который так и не смог разрастись до революции, предстал бы как невероятное зрелище антикоролевского восстания, поддержанного самим королем.
Не надо упускать из виду эти факты, эти парадоксы, принципы бывшего общественного права, чтобы прочувствовать, как и Людовик XIV, хаотические события, вызванные опасными и абсурдными внутренними войнами. По правде говоря, мы их наблюдаем со стороны, а не из окруженного королевского дворца Пале-Рояль. Мы на них смотрим с расстояния в триста лет, а не во время мятежа кричащих и озлобленных людей. Мы на эти войны смотрим как зрители, а не как действующие лица или жертвы.
Двадцать шестого августа 1648 года, когда коадъютор служит молебен в Нотр-Дам в честь победы при Лансе, королева-мать приказывает арестовать президента Потье де Бланмениля и советника Брусселя, самых упорных противников в парламенте. После этого в Париже появилось 1260 баррикад. В ночь с 26 на 27 августа Гонди и герцог де Лонгвиль разработали план заговора против Мазарини. Когда Бруссель был освобожден, баррикады исчезли. Двор же покинул столицу 13 сентября якобы для того, чтобы не подвергать опасности здоровье короля. Анна Австрийская здесь почти ничего не выигрывает, Мазарини — еще меньше, 22 октября регентша, позволившая Гастону Орлеанскому и Конде вступить в дискуссию с представителями парламента, подписывает — против своей воли, но подписывает — декларацию в СенЖермене: приняты все требования парламента, прежние требования палаты Людовика Святого и новые, поскольку королева обязуется отменить практику указов о заточении без суда и следствия. По странному совпадению парламент подтверждает эту капитуляцию двора в день заключения Вестфальского мира. Понятны мысли Мазарини, оброненные 30-го: «Признайтесь, что надо иметь большую любовь и необычайное рвение, чтобы с удвоенным вниманием, как это делаю я, заботиться об обществе, которое так плохо ко мне относится, да еще в тот момент, когда, мне кажется, можно без тщеславия сказать, что оно пожинает некоторые плоды моих трудов»{70}.
После декларации 22 октября двор возвращается в Париж. Королева хочет взять реванш над парламентом и коадъютором, но должна уберечь Месье (брата покойного короля) и Конде. Воспользовавшись праздником Богоявления, она увозит своего сына в ночь с 5 на 6 января 1649 года. Мазарини, который был автором этой неожиданной развязки, напишет: «Мы должны возносить хвалу Господу за решение, которое Его Величество принял: покинуть Париж, так как последующие события ясно показали, что нас вскоре окружили бы и что заговор был направлен на то, чтобы захватить короля, после этого нечего было и надеяться, что в течение всего периода несовершеннолетия короля можно будет оспаривать авторитет парламента или делать что-либо вопреки его желаниям».
Через три дня парламент в постановлении безо всякого стеснения объявляет кардинала «возмутителем общественного спокойствия», в то время как главари Фронды — герцог д'Эльбеф, герцог де Буйон, коадъютор, герцог де Бофор, принц де Конти и другие — торжественно дают клятву поддерживать парламент до окончательного изгнания за пределы Франции ненавистного министра. Фронда — это Конти (самый важный вельможа), Бофор (самый популярный на центральном рынке Парижа), Буйон (самый большой интриган) и коадъютор (с которым никто не может сравниться в ловкости и натиске).
Мазарини создал юмористический антипортрет Гонди: «Он набожный, признательный, умеренных взглядов, добрый, скромный, правдивый, любящий спокойствие государства, которого он добьется с легкостью и выгодой, знающий, как надо вести переговоры с испанцами, враг интриг и много усердствующий для возвеличения государства и восстановления королевской власти»{70}. Гонди (в ожидании назначения архиепископом Парижа: его дядя еще не умер) имеет почетный титул архиепископа Коринфского. Пребывая в ожидании официальной светской власти, которая присовокупится к его духовной власти, этот одержимый экипировал на свои деньги полк легкой кавалерии, Коринфский полк, первую войсковую часть, созданную Фрондой, помимо отрядов городской милиции. И хотя войска коадъютора были переданы под командование герцога де Бофора, они не смогли продвинуться дальше Жювизи (28 января). «Это Первое Послание к Коринфянам», — говорил, смеясь, Конде. Та же неудача в начале февраля в Бур-ля-Рен: второе послание к Коринфянам — подсчитывает Конде.
В самом деле, если король, королева-мать и кардинал тогда смогли овладеть ситуацией, они этим обязаны победителю при Рокруа и Лансе. Париж его ненавидит, но опасается; двор не выносит его непомерную гордость, но принц в настоящее время незаменим. 8 февраля он берет Шарантон. С 12-го по 28-е войска сдавливают кольцом Париж.
В Париже бушуют страсти. Доктор Ги Патен, будущий декан факультета, пишет б марта: «Все время продолжается печатание новых пасквилей на Мазарини и на всех, кто примыкает к его несчастной партии, и в стихах, и в прозе на французском языке и на латинском, хороших и плохих по качеству, едких и сатирических; все бегут за публикациями как на пожар, и никогда ничего так не нравилось, как то, что говорится и делается против этого несчастного тирана, мошенника, старьевщика, комедианта, фигляра, итальянского разбойника, которого все сообща проклинают». Проклятия все громче, цены растут каждый день. В июле пресса выпускает печальный памфлет «Полог ложа королевы», написанный александрийским стихом в грубых выражениях, автор в нем развивает прежнюю клевету (ее первое появление датировано 1643 годом), в которой Мазарини выступает в роли любовника Анны Австрийской: «Народы, не сомневайтесь больше, это правда, что он ее е…»{84} Людовик XIV не читал эти гадости и глупости, но его камердинер Лапорт был так сердит на кардинала, что до юного короля должно было дойти эхо пасквилей на Мазарини. Конечно, эти пасквили выказывают большую лояльность по отношению к его персоне; но что это за монархическая лояльность, если главного министра и крестного отца короля смешивают с грязью, королева опозорена и оклеветана? А в общем, эти тысячи пасквилей только лишь укрепили узы между Людовиком и его крестным отцом.
В то время генералы Фронды сговариваются с Испанией через Тюренна, а Матье Моле, первый президент, напротив, сближается с Анной Австрийской. 4 марта парламентская Фронда посылает ко двору своих «дипломатов»; 11-го подписаны соглашения в Рюэле, которые парламент решает зарегистрировать 1 апреля. Моле удалось отдалить сначала своих собратьев, затем оттянуть еще большую часть парижан от когорты генералов-смутьянов Фронды. Впрочем, этот мир — компромисс: двор подтверждает привилегии, которых уже добилась магистратура в июле и октябре 1648 года, парламент аннулирует свое январское постановление против Мазарини. Если Париж быстро успокаивается и веселится, то архиепископ Коринфский присоединяется ко всем только через два месяца: он все-таки прибывает в Компьень и приглашает двор возвратиться в Париж.
Восемнадцатого августа Людовик XIV возвращается в столицу, его встречают восторженными приветственными возгласами. Он может тотчас же составить себе представление о непостоянстве народа, его переменчивости: ни малейшего улюлюканья в адрес Мазарини. Возвращение короля — «это блистательное зрелище», «сопровождавшееся приветственными возгласами, изъявлениями радости, идущей от всей глубины сердца, высказанное такими словами любви: «Да здравствует король! Да здравствует Людовик!» Так же выражает свои мысли в «Королевском триумфе» (в речи, посвященной Мадемуазель) любезный льстец по имени Н. Розар. До воспевания Мазарини он не доходит, все его усердие направлено на то, чтобы связать понятие Король-Солнце с юным королем. Людовик XIV здесь «и сверкающая звезда, и лучезарное солнце, и день без ночи»{70}. Даже Ги Патен, который ненавидел большие сборища, пришел поприветствовать королевский кортеж: «Я там тоже был и видел там столько народу, сколько никогда не видел. Королева сказала вечером, ужиная в Пале-Кардиналь[21], что она никогда не думала, что народ Парижа так любит короля… На следующий день, в четверг 19 августа, все корпорации и сообщества города пришли приветствовать и поздравить королеву с возвращением и с тем, что она вновь привезла короля в Париж»{34}. Не последним произнес речь и коадъютор.