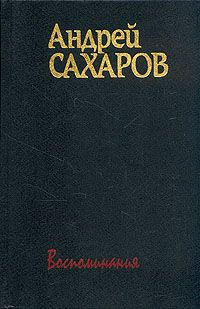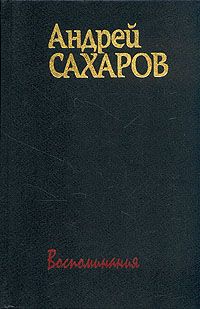Анатолий Иванов - Вечный зов (Том 2)
Отдохнешь и ты.
- Как? - спросил он, кончив декламировать.
- Что?
- Стихи-то? - И Губарев поглядел строго и ожидающе.
- Хорошо. Я их с детства знаю.
- Это очень хорошо. Это "Ночная песня странника" Гёте, величайшего поэта Германии.
- Гёте? Это, по-моему, стихи Лермонтова.
- Лермонтов их перевел только, Вася. Гениально перевел...
С того места, где стояли Василий, Губарев и Назаров, была видна верхушка красной черепичной крыши длинного, видимо одноэтажного, здания, высоко над крышей поднималась квадратная кирпичная труба, стянутая в нескольких местах, через ровные промежутки, железными ремнями. Труба чуть дымила, и люди в полосатых одеждах знали, что это за крыша и что за труба, ибо крематории во всех немецких лагерях почти одинаковы. Чуть дальше виднелось еще несколько таких же труб.
- А я защитил диссертацию по творчеству Гёте, - все так же негромко сказал Губарев, глядя на эту трубу. Потом чуть повернулся направо, долго смотрел поверх каких-то построек на синеватые склоны невысокой горы, густо заросшей деревьями.
И вдруг глаза его набрякли, в свете тусклого дня в них блеснули слезы.
- Валь?! - качнулся к нему Кружилин. - Чего ты?
- Ничего, ничего, - прошептал Губарев. - Я всю жизнь мечтал побывать в Тюрингии... в Веймаре... - Голос его прерывался, заглох совсем, будто горло заткнуло пробкой. Он сделал глоток, проглотил эту пробку. - В городе, где жил великий Гёте...
Василий не понимал, что происходит с Губаревым, не знал, что сказать.
- Ничего... Задавят наши фашистов - и побываешь.
- Уже, уже... - сдавленно прошептал Губарев. - Только что был там, несколько часов назад. Я узнал это место. По репродукциям, по фильмам... Это вот... - Губарев кивнул в сторону. - Это гора Эттерсберг. Она вся заросла дубами и буком. Гёте здесь и написал эти стихи в 1780 году, на стене охотничьего домика, в горах, карандашом... Мы знаешь где? Мы знаешь где? В концлагере Бухенвальд. Бухенвальд - это значит буковый лес...
Василий как-то сразу даже и не мог осознать, что же такое говорит ему Губарев, а потом для этого уже не было времени. По колонне пленных прошло движение, возник было говорок и увял, точно придавленный чем-то. Василий поверх голов увидел, как медленно распахиваются массивные ворота под вышкой словно челюсть чугунная разверзлась лениво и нехотя.
Автоматчики, которые конвоировали колонну до Бухенвальда, стали по сторонам, все так же держа оружие на изготовку, откуда-то появились эсэсовцы с карабинами и резиновыми дубинками, подняли крик, галдеж, хлопнул где-то сбоку выстрел. Колонна, грохоча по булыжнику деревянными башмаками, потекла в открытые чугунные ворота, сперва медленно, потом все быстрее. Но эсэсовцы орали свое: "Шнель, шнель!", колотили крайних прикладами и дубинками. Каждый заключенный, чтобы избежать ударов, пытался забиться в середину колонны, побыстрее втиснуться в ворота. Люди давили друг друга, некоторые падали, их топтали бегущие сзади. Еще донеслось сбоку два или три выстрела, треснула негромко, заглушенная грохотом башмаков, автоматная очередь.
- Сволочи! - выкрикнул Василий, плечо в плечо бежавший с Губаревым и Назаровым.
- Тише ты! - обернулся к нему на ходу Губарев, кивнул на цепь: - Услышат и сразу пуля!
У самого жерла ворот Василия, Назарова и Губарева стиснули так, что у всех захрустели кости, и они уже не сами вбежали туда, тупая и неостановимая сила протолкнула их внутрь лагеря, и первое, что Василий увидел, была виселица. Она стояла одиноко и зловеще на пустынном плацу чуть слева, неподалеку от ворот, несильный ветер раскачивал пустую петлю. Василий не удивился, увидев виселицу, - они были почти в каждом лагере. Василий знал, что веревочную петлю на этой виселице, как и на всех других в немецких лагерях, давно не надо намыливать от частого использования веревка насквозь пропиталась человеческим жиром, залоснилась, была гладкой и скользкой, как налимье тело. Он только подумал, что если их погонят сейчас направо, к крематорию, то это могут быть их последние шаги на земле.
Их погнали направо. Василий, чувствуя тупую боль в сердце, только беспомощно оглянулся на Губарева, затем поглядел на Назарова. Тот бежал, глядя, как всегда, в землю, а Губарев повернул к Кружилину худое, окрашенное предсмертным, землистым цветом лицо.
- Кажись, все, Вася, - мотнул он головой в сторону крематория и болезненно дернул сухими губами.
- Не-ет! - с неожиданным самому себе упрямством и злостью на кого-то закричал что было сил Василий. - Я счастливый, понятно-о?!
Крик его потонул все в том же грохоте деревянных башмаков по камням.
* * * *
Поликарп Матвеевич Кружилин наскоро закрыл заседание бюро райкома, отпустил всех, кроме парторга ЦК ВКП(б) на заводе Савчука, председателя райисполкома Хохлова, встал из-за своего стола, шагнул к дивану, на котором вот уже минут пять лежал неподвижно Федор Федорович Нечаев. На ходу он взял ближайший стул, поставил возле дивана, сел. Глаза директора завода были прикрыты, веки чуть подрагивали, большой лоб в крупных каплях пота.
- Извините, Поликарп Матвеевич, - слабым голосом, произнес Нечаев, не открывая глаз. - Вы извините меня.
- Сейчас придет врач, Федор Федорович.
- Это вы напрасно... Не надо врача. Я себя знаю, ничего страшного.
После аварии на заводе Нечаев чуть ли не полгода лежал в больнице, сперва в Шантаре, потом в Новосибирске, никто уже не надеялся, что он выкарабкается из могилы. Но он сумел встать на ноги, был назначен вместо погибшего Антона Савельева директором завода. Внешне он выглядел более или менее сносно, и первое время никто не догадывался, что его частенько скручивают и валят с ног приступы удушья и что его секретарша Вера Инютина, где-то в середине еще прошлого года уволившаяся из райкома и поступившая на завод, иногда по целым часам возилась с ним в кабинете. Она поила директора какой-то микстурой, всегда стоявшей в ящике его стола, клала холод на голову, иногда по его просьбе массировала худую, жиденькую грудь со страшными шрамами от ожогов.
Нечаев строго-настрого запретил ей сообщать кому бы то ни было, даже собственной жене, о его болезни.
Но в марте нынешнего года Нечаев, никому ничего не объясняя, освободился от своей слишком уж заботливой секретарши, перевел ее в систему заводского ОРСа, а на место Веры взял Наташу Миронову. Новая секретарша при первом же головокружении у Нечаева подняла на ноги весь райком партии, партком завода и весь заводской медпункт.
- Не смей! - приподнялся он было с дивана, когда Наташа у него в кабинете кинулась к телефону. - Холодное полотенце лучше на голову дай... Обратно в столовую прогоню!
- Это дело ваше! - резко проговорила Наташа. - Я не сама к вам в секретари напросилась...
Нечаев тогда потерял сознание, а когда очнулся, в кабинете находились Кружилин, Савчук, несколько врачей.
Это был первый случай, когда он потерял сознание. А затем приступы следовали один за другим; иногда его схватывало прямо где-нибудь в цехе, прибегали из заводского медпункта врач с санитарами, уносили оттуда на носилках замертво.
- Надо капитально подлечиться, Федор Федорович, - заявил в конце концов Кружилин, видя, что дело может кончиться плохо.
- Да? А завод?
- Что ж завод?.. Дело идет о вашей жизни или смерти.
- Нет, я здоров. Это - так...
Кружилин посоветовался по телефону с Субботиным, тот немедленно отреагировал на тревожные слова секретаря райкома, прислал из Новосибирска старичка профессора, известное на всю страну светило медицинской науки, в клинике которого Нечаев лежал после пожара.
- Денег девать некуда вам с Субботиным, так хоть на путешествие этого профессора истратить, - дернул только Нечаев своей куцей бородкой. - Он и без того знает, что я здоров.
Приезжий профессор несколько дней возился с Нечаевым, на прощанье выпил у него дома несколько чашек чая и вместе с ним же пришел в райком партии.
- Федор Федорович абсолютно здоров, - огорошил оп Кружилина.
- Вот, - торжествующе сказал Нечаев.
- Но процентов, знаете... ну, тридцать не тридцать, а процентов двадцать кожи и мяса на костях у него сгорело. И сейчас организм просто не справляется, знаете ли... чихает, как мотор, когда кончается бензин.
- Вот, - опять произнес Нечаев, но теперь уныло, с обреченной усмешкой.
- Что вот? - сердито вскрикнул старичок профессор. - Удивительно не то, что сейчас не справляется, - удивительно, как вы, любезнейший Федор Федорович, вообще обманули смерть.
- С вашей помощью, дорогой профессор, - буркнул Нечаев.
- С моей? Нет-с и нет-с. И сейчас я, собственно, приехал еще раз на вас взглянуть из любопытства. Я не знаю, не могу понять: почему, откуда и какие у вас жизненные силы? А уж поверьте, в медицине, в человеческом организме я немного разбираюсь.
- Что же вы посоветуете, профессор? - спросил Кружилин.
Старичок, худенький, седенький, снял очки, подслеповато сощурился, глядя поочередно то на Кружилина, то на Нечаева, протер носовым платком глаза и снова надел.