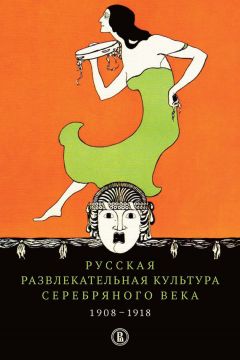Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»
Ахматова сказала о Мандельштаме: «Лучший поэт», и это было сказано не против Блока… Но таких кусков поэзии, такой магии слов нет у Блока. Его стихи лучше по качеству стихов Блока и Анненского, но те создали свои миры. Так у Лермонтова — строки, каких нет у Пушкина, но отдельные строки. А у Пушкина — свой мир. Нет поэзии Лермонтова, как есть поэзия Пушкина.
З. Гиппиус говорила в эмиграции: «Пришел ко мне Мандельштам — худой, зеленый… Но я сразу определила: замечательный поэт»[1024].
Одно из посл<едних> собраний «Аполлона» в 1917 г., читали стихи Пяст и Мандельштам. Говорил В. Иванов. Все молчали. Он был верховный авторитет и для Гумилева. В. Иванов превозносил Пяста и скептически отнесся к Мандельштаму. Это литературная политика (Пяст — символист). Но мы думали иначе…
Я с Мандельштамом дружил. Он был необычайно даровитый человек в разговоре. Как Поплавский. Их умение беседовать не ниже их поэтического дара. Мы говорим связно, а М<андельштам> — иначе. И он считал, что его собеседник так же даровит, как он сам. Я не всегда за ним поспевал…
М<андельштам> всегда хохотал, заливался смехом, о чем бы ни говорил.
Как-то, уже при большевиках, мы говорили с М<андельштам>ом о Пушкине, преимущественно восклицаниями: помните это, а это знаете?.. И он вдруг сказал мне: «После нашего разговора о Пушкине я должен признаться, что вас обманывал» (в одном деле, связанном с разными выгодами…). Этого я никогда не забуду…
Почти все люблю у М<андельшта>ма, особенно его бессвязные бормотания: «Бессонница, Гомер, тугие паруса…» или «За мыс туманный Меганом…»[1025]. Как-то на вечере я читал М<андельшта>ма и потом Пастернака. У последнего звук деревянный.
А у М<андельшта>ма виолончельно-бархатный звук… Это было у Тютчева…
Стихи М<андельшта>ма: «А зодчий не был иностранец…» А потом вдруг: «Ну что ж?» Это смысла не имеет… Вероятно, реминисценция из Ахматовой. Но хорошо…[1026]
Разбор стихов в «Цехе». Разбирали технику стихосложения. Ничего особенного… Все присутствующие хотели сказать что-н<и>б<удь> умное… Настоящий разбор стихов всегда с глазу на глаз… Вообще не надо преувеличивать значение «Цеха»… А Гумилев всегда хотел, чтобы все было по его линии… Как-то читала Ахматова: «Мы шумно бродили по дому…»[1027] Мандельштам очень хвалил… А Ахматова считала эти стихи слабыми. Из своих стихов она любила: «От горькой гибели моей…»[1028] и еще одно другое.
Вторая беседа с Георгием Викторовичем Адамовичем Париж. Июнь 1960 г. Около часуО Блоке. Среди акмеистов было сопротивление Блоку. Его стиль — уязвимый. Сила Блока — не в стиле, а в ритме, в интонации. У романтиков — ритм сильнее, а у классиков — стиль чище.
Пушкин и Лермонтов: их даже нельзя сравнивать… Но вот лерм<онтовские> стихи «Не смейся над моей пророческой тоской…» — этого у Пушкина нет, этой интонации. У нас было детское фрондирование Блоку. Но мы все были его подданными. Все чувствовали его царственность. Он говорил за всех нас. Смерть его потрясла… После его смерти была статья: «Мы наследство Блока не принимаем…»[1029] Но все мы знали — кто он…
Есенин: я дружил с ним. Как-то мы шли по Невскому. Есенин сказал: «Если Блок сказал бы: „Сережа, пойди, ляг мне под ноги, ножкам моим жестко“, — я, не задумываясь, лег бы ему под ноги…»
29-го января 1837 г. и 7 августа 1921 г.: с этими смертями что-то оборвалось в России.
«Ночные часы» — расцвет Блока, «Седое утро» — уже ослабление.
А «Двенадцать»? Впечатление было потрясающее. Иванов-Разумник сказал: это как «Медный Всадник»[1030]. А сейчас — «Двенадцать» выветрились. А «Скифы» — риторика. В «Двенадцати» слишком эффектный конец. Иначе в «Медном Всаднике»: «Похоронили ради Бога…»
О Есенине: Пастушок в голубой рубашке. А глаза озорные. Жадность к жизни… В Петербурге сразу с вокзала он поехал к Блоку, который хорошо его принял. Потом покровительство Городецкого и Клюева.
Но др<угие> петербургские поэты приняли его в штыки. Говорили: «У Есенина фальшь, притворство, маскарад». Маяковский сказал: «В есенинских стихах заговорило ожившее лампадное масло»[1031]. Московский поэт.
Есенин — не большой, но настоящий поэт. Понимаю, почему именно его так любят в России. Там быт — жесткий, трудный <?>, нет нежности… Его грустная легкая музыка встречает в России отклик. Маяковский — более даровитый поэт, но он — жесткое Явление.
У Есенина — дар непосредственности, стихи из ничего, это пушкинское качество (хотя Пушкин и Есенин — величины несравнимые). Есенин не воняет литературой (тургеневское выражение).
З. Н. Гиппиус лорнирует Есенина, кот<орый> явился на какое-то собрание в валенках: «Какие на вас гетры, где вы их купили?»[1032]
В посл<едний> раз видел Есенина в Берлине, он приехал из Америки. Страшный, вспухший, налитый какой-то водой… Бранил Айседору Дункан последними словами… Но другим ругать ее не позволял.
Хлебников: самый молчаливый человек на свете… Видел его в «Бродячей Собаке». Там же бывал Маяковский. Как-то раз он прочел (не помню стихов в точности): «С неба смотрела какая-то дрянь величественная, как Лев Толстой»… Его стащили с эстрады[1033].
Однажды Мандельштам говорил, говорил и вдруг остановился: «Не могу больше говорить, п<отому> ч<то> в соседней комнате молчит Хлебников». Вероятно, Хлебников всегда был погружен в свои философские, лингвистические домыслы. Не в обиду будь сказано: он был ненормальный человек. И очень одаренный человек. Если бы у него было больше культуры, он мог бы стать гениальным ученым.
Стихи его меня не восхищают. А помню, как Сологуб восхищался его стихами (читает быстро, я не смог записать: падают какие-то два имени, и потом сероглазый король)[1034].
У него была репутация гениального поэта. Необычайное чутье слова. Футуристы считали его существом высшего порядка. Никакого притворства в Хлебникове не было. Все настоящее. Прозы его не помню. Мог бы рассказать Анненков[1035].
Маяковский — огромное дарование. Оратор в поэзии. Замечательный чтец. В лесу или ночью никто не станет читать Маяковского. Но его чтение с эстрады производило сильное впечатление. Он предатель поэзии. Все вывернул наизнанку, доказывал, что изнанка важнее лицевой стороны.
В Маяковском есть трагическое и смешное, что-то от Несчастливцева. Но это мое личное мнение…
Один сов<етский> поэт, кот<оро>го я недавно встретил, сказал: «Что вы меня глупости спрашиваете: Маяковский — первый поэт в России!.. Культ возник уже после его смерти, после одобрения Сталиным».
Много замечательного в его дореволюционных стихах о любви…
У него своя интонация: «Мама, ваш сын прекрасно болен…»[1036] Его ораторская поэзия от Державина, Некрасова…[1037]
Пастернак: его никогда не видел. Заговорили о нем в 1916 г. О его стихах в альманахе «Весеннее контрагентство муз»… Он тогда произвел большое впечатление на Мандельштама[1038].
В Петербурге я познакомился с М. Цветаевой, на вечере у Каннегисеров. (См. ее «Нездешний вечер».) Приехал в Москву. Спрашиваю по телефону: «Знаете вашего московского Пастернака?» Она: «Первый раз слышу это имя»… Потом Цветаева Пастернаком бредила…[1039]
Цветаева всегда увлекалась, напр<имер>, Ахматовой, кот<орая> была к ней равнодушна.
О соперничестве Москвы и Петербурга… Даже в карты играли: моск<овский> туз Брюсов, петербургский — Блок. Блок всегда побеждал… Святополк-Мирский сказал о Цветаевой: «Распущенная москвичка…»[1040] Лучшее у Цветаевой — ее стихи Блоку…
Пастернак и Цветаева очень связаны. Пастернак значительнее. Но у него нет мелодии Цветаевой… Увлечение Пастернаком не было ей на пользу. Исчезла ее первоначальная непосредственность… У ней был чистый звонкий голос. Она сошла с ума на переносах. Иногда 12 строк и 12 <enjambements>.
Цветаева настоящий поэт и несчастный человек. Очень много обещала… М<ожет> б<ыть>, я бывал к Цветаевой несправедлив… у меня петербургские навыки[1041]. У ней демонстративная поэтичность, как у Бальмонта, Бенедиктова… Поэзия дышит, где хочет… А акмеисты хотели, чтобы все были причесаны под одну гребенку… Это ошибка…
Пастернак производил в поэзии опыты, от кот<оры>х позднее он отрекся. Он придавал словам любое содержание… Ахматовой он писал: «Вы прикололи испуг оглядки столбом из соли»…[1042] Все слова в вихре, в ритмическом урагане… До Пастернака все стихи можно было рассказать своими словами, хотя они тогда переставали быть стихами… Слово у П<астерна>ка — не логическая единица… Намеки уже были у Анненского: у него слово переставало означать, что оно обычно означало.