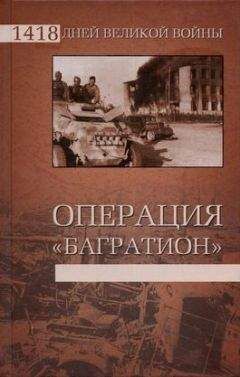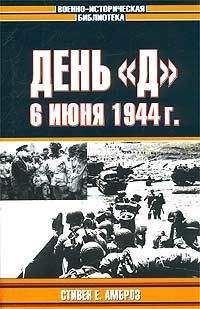Андрей Андреев - Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы
Наконец, вызвавший много нареканий в историографии § 80 Устава 1835 г. допускал не только выборы профессора или адъюнкта на вакантное место, но и прямое назначение туда министром «людей, отличных ученостью и даром преподавания, с требуемыми для сих знаний учеными степенями». Излишне повторять, что именно прямое назначение профессоров правительством практиковалось в немецких университетах XIX в. и приносило превосходные результаты. Эффективность этой меры и в России сам Уваров доказал, занимаясь распределением на университетские кафедры молодых ученых, прошедших заграничные стажировки, и тем значительно обновив и придав новый импульс развитию всех российских университетов.
Согласно данным официальных отчетов, министерство народного просвещения с 1829 по 1847 г. отправило за границу 92 человека,[1262] в судьбе большинства из которых Уваров принимал непосредственное участие. Из них в Берлинском университете за эти годы прошли обучение шестьдесят (!) будущих профессоров российских университетов, что лишний раз подчеркивает уникальное значение Берлина как ведущего проводника идей «классической» эпохи для России в эти годы.[1263] Здесь будущие отечественные профессора впитывали ценности новой университетской модели: так, один из них, словно цитируя слова В. фон Гумбольдта, писал, что преподавание в Берлине «основано на идеях и насквозь проникнуто идеями».[1264] Те, кому довелось слышать лекции этого нового поколения русских ученых вскоре после их возвращения из Германии, вспоминали: «В каком-то поэтическом упоении знанием и мыслью возвращались молодые люди в отечество и сообщали слушателям воодушевлявшие их идеалы, указывая на высшие цели для деятельности».[1265] Эти идеалы и «высшие цели» быстро усваивались и вошли в плоть и кровь российских университетов 1830—40-х гг.
Среди представителей различных дисциплин, учившихся в Берлине, больше было правоведов – 23 человека, которые после возвращения в Россию были распределены Уваровым на полностью реорганизованные Уставом 1835 г. юридические факультеты. В этой связи можно указать на уникальное явление (которое, по-видимому, больше не повторялось в отечественной университетской истории): юридические науки во всех университетах Российской империи в 1830—1840-е гг. преподавались представителями одной и той же научной школы «исторического законоведения», проистекавшей из Берлинского университета. Их общий учитель, профессор Ф. К. фон Савиньи высоко отзывался о способностях и успехах своих русских учеников и даже полагал, что некоторые из них «могли бы занять профессорские места в немецких университетах».[1266] Об этом принципиальном обновлении российской университетской юриспруденции, благодаря обращению к «классическому» университету, Уваров публично сообщал через «Журнал министерства народного просвещения» русскому обществу: «Молодые юристы, довершившие свое ученое образование в университете Берлинском, первом между университетами Германскими (курсив мой – А. А.), и вошедшие в состав юридических факультетов, которые по Уставу университетскому 1835 г. получили новое бытие и новое значение, без сомнения постигнут великую цель, для которой они призваны. От их совокупной, но вместе с тем самостоятельной деятельности, возникнет Наука Законоведения. Она, как нежное растение, взлелеянное благотворными лучами живительной силы государственной, пустит глубокие корни на Русской почве, раскинется пышными ветвями и принесет со временем цветы и плоды, которые сделают честь уму Русского народа»[1267].
Помимо правоведов, в Берлине 1830—40-х гг. также обучались десять будущих профессоров медицины и почти три десятка представителей философского факультета: историки, филологи-классики, экономисты, химики, физики, математики, зоологи, ботаники, геологи, агрономы. В их числе были такие будущие звезды отечественного высшего образования, как Т. Н. Грановский, Н. И. Пирогов, Ф. И. Иноземцев, M. М. Лунин, Ф. Б. Мильгаузен, А. А. Воскресенский, И. В. Вернадский, П. М. Леонтьев и др. В ноябре 1834 г. группу из пятнадцати стипендиатов Профессорского института, находившихся в Берлинском университете, посетил император Николай I, пожелавший им, «чтобы, употребив в пользу пребывание свое в чужих краях, они сделались достойными имени Русского и того назначения, к коему избраны Отечеством».[1268] В том же году им было посвящено особое место в отчете министерства народного просвещения, где чувствовалась заметная гордость Уварова за то, что отечественные профессора готовятся к своей деятельности под руководством лучших представителей немецкой университетской науки.[1269] Действительно, в Берлине физики П. И. Котельников и В. И. Лапшин учились у П. Г. Л. Дирихле и П. Эрмана, историки М. С. Куторга и M. М. Лунин – у Л. фон Ранке, экономисты В. С. Порошин и А. И. Чивилев – у К. Риттера, филологи Д. Л. Крюков и В. С. Печерин – у А. Бёка, студенты-медики – у К. В. Гуфеланда и И. Мюллера и т. д.
После возвращения молодых ученых в Россию их распределению по кафедрам Уваров придал публичный, открытый характер. Так, воспитанники Профессорского института вернулись в июле 1835 г., как раз в период введения в действие нового университетского Устава. Чтобы оценить уровень достигнутой ими подготовки, при министерстве был создан особый Комитет по вопросам, связанным с распределением, и назначены пробные лекции, которые проходили с середины июля до начала сентября в малом зале Петербургской Академии наук.[1270] Объявление этих лекций, с одной стороны, очень напоминало процесс принятия новых преподавателей (Habilitation) в Берлинском университете, с той только разницей, что оценивали и обсуждали их профессора не одного, а нескольких университетов, а также ученые из Академии наук, назначенные в комитет Уваровым. С другой стороны, у этих публичных лекций, несомненно, была и иная функция: министр воспользовался ими, чтобы еще раз привлечь общественное внимание к результатам своей политики, возрастающему уровню российской науки. О широком общественном звучании, которое придавали этим лекциям, свидетельствовало и помещение подробного отчета о них в «Журнале министерства народного просвещения», а также полная публикация там текстов нескольких лекций.[1271]
Итогом этой политики Уварова явилось то, что в 1830—40-е гг. каждый из пяти университетов «внутренней России» (а к Московскому, Казанскому, Харьковскому и Петербургскому после закрытия Виленского университета присоединился в 1833 г. новый университет св. Владимира в Киеве) получил от одного до двух десятков новых профессоров европейского уровня, и лишь Дерптский университет, меньше других нуждавшийся в таком подкреплении, был сравнительно с другими обойден при распределении молодых ученых, вернувшихся из-за границы.
Что касается профессоров-иностранцев, то их приглашение в Россию приобрело теперь второстепенный характер, встречаясь лишь в единичных случаях, а необходимость в их массовом приезде в российские университеты отпала. Если на рубеже 1820—30-х гг. Харьковскому и особенно Казанскому университету после разгрома Магницкого еще требовались новые профессора из-за границы (в 1828–1834 г. в Казань прибыли четыре немецких профессора для преподавания латинской словесности, физики, зоологии, политической экономии, а в Харьков – три немецких профессора по кафедрам восточных языков, греческой словесности, терапии и клиники), то после принятия Устава 1835 г. из Германии в Россию были приглашены лишь три профессора: Ф. К. Фрейтаг в Петербургский университет, К. К. Гофман – в Московский, и Ф. И. Фатер – в Казанский, причем все они представляли классическую филологию. Это была любимая дисциплина эллиниста Уварова, который и сам пользовался уроками приглашенного им в период основания Петербургского университета филолога Ф. Б. Грефе. Поэтому министр одобрял вызов соответствующих профессоров из Германии, словно бы считая, что лишь немцы в этой области способны достичь необходимого высокого уровня знаний.[1272] И действительно, например,
Ф. И. Фатер, приглашенный по рекомендации А. Бёка, значительно поднял уровень преподавания древних языков и литературы в Казани, разработал новую систему курсов, включавшую, помимо сугубо филологических упражнений, широкое изучение античной культуры.[1273]
Однако, несмотря на успех отдельных приглашений немецких профессоров в российские университеты, нельзя не заметить, что их восприятие там в 1830—40-х гг. по сравнению с началом XIX в. заметно изменилось. Теперь от профессоров требовалась не только глубокая ученость, но и знание русского языка, умение читать лекции, привлекавшие студентов. Так, например, Б. А. Дорн, крупнейший историк и филолог-ориенталист, позднее – действительный член Петербургской Академии наук, в первые годы пребывания в Харькове с трудом мог найти слушателей, желавших разбираться в трудностях арабской и персидской грамматики, излагаемых еще и на латинском языке, хотя к концу своего преподавания преодолел это препятствие и научился читать лекции по-русски.[1274] Зато профессору греческого языка Э. К. Мауреру в Харькове приходилось выносить постоянные насмешки слушателей – он так и не смог выучить русский язык и не понимал своих студентов, а они не понимали его, поскольку плохо владели немецким, из-за чего, несмотря на прекрасное знание профессором своего предмета, его преподавание, по признанию биографа, принесло мало пользы.[1275] Точно также отзывался С. М. Соловьев о пребывании К. К. Гофмана в Московском университете. И даже ученейший зоолог Э. А. Эверсман, участник многолетних экспедиций по арало-каспийской низменности, автор одиннадцатитомного сводного труда «Естественная история Оренбургского края», но при этом плохо говоривший по-русски и читавший лекции «вяло», не смог в Казанском университете добиться высокой репутации среди студентов.[1276] Очевидно, что в наступившую новую эпоху в развитии российских университетов студенты ждали увидеть на кафедре уже не ученых немцев, а ярких отечественных лекторов, талантливо излагающих свой предмет на русском языке и способных выступить олицетворением «национальной» науки.