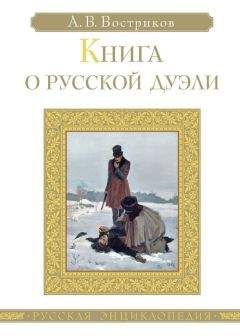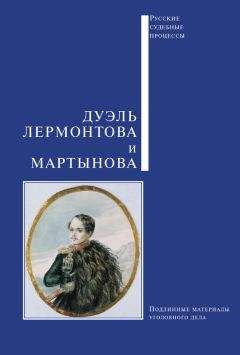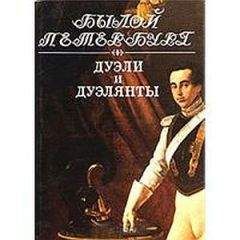Александр Востриков - Книга о русской дуэли
Продолжим логику подобных рассуждений: если все действительно ценное для дворянина заключается в сфере государственной, то для дуэлей и не может быть причин. Значит, те, кто дерутся на поединках, — это сумасброды, готовые пролить свою кровь (тем паче чужую) из-за ерунды. Тут, наверное, просто бессмысленное стремление подражать каждой французской (вариант: немецкой и т. п.) глупости, да и то показное, тут не прольется настоящая кровь (ну кто же будет из-за этого рисковать своей жизнью?!), тут только клюквенный сок.
Отсюда неизбежное присутствие дуэли в качестве объекта осмеяния в сатире екатерининской эпохи и в наследовавшей ей литературе. Вот, например, в „Почте духов“ И. А. Крылова: „Ежели праздность у военнослужащих бывает источником их распутств, то она же бывает у них и побуждением к ссорам, которые гораздо чаще между ними случаются во время стояния их на квартирах, нежели тогда, когда бывают они против неприятеля в поле. В то время, когда занимаются они службою, некогда им думать о непристойных друг над другом шутках, о игре, о пьянстве и о перебивании любовниц: от сего-то обыкновенно бывают поединки, происходящие по большей части от какого-нибудь вздорного начала. Итак, праздность только одна бывает причиною сих гнусных сражений, которые противны общественному благоденствию и запрещаются Богом и Государем“.
А вот еще очень характерный пассаж из „Сатирического вестника“ Н. И. Страхова: „Мода повелевала ссориться, быть дерзким, всякого для испытания толкать, ругать, драться при первом слове и таковыми гнусными и обидными поступками принуждать других решить ссору шпагами, проливать кровь и нередко кончить самую жизнь“.
Своеобразным шедевром подобной критики дуэли сталa басня А. Е. Измайлова „Поединок“. Осел и Лошак поссорились и решили драться на дуэли: пришли с секундантами, Бараном и Козлом, в чистое поле и ну друг друга лягать. Tут появился Хозяин с плетью, отстегал задир, а потом решил выяснить, в чем же дело:
— Проклятие! — из сил он выбившись, вскричал:
— Да что вам вздумалось лягаться?
Сквозь слёз Осел на это говорит:
„Когда point d'honneur велит, —
Не рад, а должен драться.
Сам посуди, он стал толкаться…“
— А он так стал ругаться…
— А если станете вы у меня лягаться. —
Хозяин подхватил, —
Хоть и не рад, за плеть я должен буду взяться. Смотрите же!
— Тут он им плетью погрозил
При взгляде на него герои онемели;
Жест более подействовал, чем речь,
И после не было уже у них дуэли.
Что если бы велели
Мальчишек розгами за поединки сечь! {77, с. 34–36}.
Идея здесь настолько очевидна (и Осел, и Лошак, и Хозяин с плетью, и „мальчишки“), что не требует никаких комментариев.
Критика дуэли регулярно появлялась в печати. Вот, например, что пишет Е. П. Ростопчина в повести „Поединок“: „Поединок — это испытание, где сильный непременно попирает слабого, где виновный оправдывается кровью побежденного, где хладнокровие бездушия одолевает неопытную пылкость, ослепленную страстью и заранее обезоруженную собственным волнением, поединок — это убийство дневное, руководствуемое правилами! И на каких правилах, боже мой! основан он, свирепый поединок! Какая странная, какая чудовищная изысканность определила законы делу беззаконному, рассчитала возможности смертоубийства, назначила случаи, позволяющие человеку безупречно метить в свою жертву, обезоруженную, если ему выпадет выигрыш в этой безнравственной лотерее!“ {144, с. 250–251}.
А вот еще более эмоциональная филиппика. Впрочем, принимая во внимание личность автора — А. С. Грибоедова, — мы можем оценить весьма теоретический характер этих рассуждений:
Доколе нам предрассужденью
Себя на жертву предавать,
И лживому людей сужденью
Доколе нами управлять?
Не мы ли жизнь, сей дар священный,
На подвиг гнусный и презренный
Спешим безумно посвятить
И, умствуя о чести ложно,
За слово к нам неосторожно
Готовы смертью отомстить? {52, с. 279}.
Вторая половина XVIII — первая половина XIX века были временем безусловного преобладания дворянства во всех сферах — политической, экономической, культурной и т. д. Дворянскому сознанию, дворянской морали, чести и дуэли как основному ее ритуалу практически ничего не противостояло. „Закон“ считал дуэль преступлением, но исполнителями законов были дворяне, которые считали дуэль естественным и неизбежным средством разрешения дел чести.
Серьезное противостояние дуэли в общественном мнении усилилось в 1840-е годы, и особенно сильно распространилось к 1860-м. Это было связано с появлением на общественной сцене разночинцев. Идеи дворянского аристократизма оказались сильно потеснены. Само понятие чести перестало намертво связываться с дворянством. Развитие разнообразных форм публичной жизни сделало возможным разрешение дел чести различными способами, не связанными с дуэлью. Дуэль постепенно становилась устаревшей барской причудой.
Неприятие дуэли шло от идей, от „головы“ — в быт, в практику. „Идейный“ нигилист (но по происхождению дворянин) Базаров не принимает идею дуэли, но в реальных ситуациях в его действиях проглядывает дворянская память: „С теоретической точки зрения дуэль — нелепость, ну а с практической точки зрения — это дело другое“. Впрочем, тут во многом сказалась родословная не Базарова, а Тургенева, которому трудно было представить дворянина, способного снести оскорбление и не вызвать оскорбителя. Но тке читатели „Отцов и детей“ из молодых нигилистов не просто могли отказаться от дуэли, но и гордились этим. Е. Н. Водовозова вспоминала, как в кружке петербургской молодежи 1860-х годов обсуждали „Отцов и детей“. Участники этого кружка считали Базарова „своим“ — но как его изобразил Тургенев! „А дуэль? Кто из нас оскандалит себя ею?“ — „Дуэль — старый пережиток, и никто еще дуэлью не доказывал своей правоты!“ {28, с. 110}. В данном случае показательно даже предположение о том, что на дуэли доказывают правоту, — оно свидетельствует о непонимании ритуала.
Дворянская честь продолжала размываться, шло разрушение сложившейся системы сословных ритуалов и условностей. Одними это осознавалось как отмирание старого, другими — как смерть культуры как таковой. Дуэльный ритуал на некоторое время оказался на пересечении этих двух точек зрения, именно поэтому в антинигилистическом романе так часто возникали дуэльные ситуации: „отрицателя“ нужно было проверить, сможет ли он благородно повести себя на поле чести; или же „отрицателя“ нужно было разоблачить как подлеца, недостойного дуэли.
К концу века разрушение дворянского самосознания становится повсеместным. Дуэль превращается в необязательный, даже экзотический элемент. Даже дворянство смотрит на нее как бы со стороны. Дискуссия, развернувшаяся после опубликования в 1894 году „Правил о разбирательстве ссор…“, наглядно показывает, что дуэль ушла в прошлое. Ритуал мертв, если возникает необходимость в его логическом обосновании. И обосновывать его логически бессмысленно. Ритуал живет не целесообразностью, а традицией. В полемике по поводу „Правил…“ не было сказано ничего нового, кроме того, что честь перестала цениться выше жизни и даже офицеры чаще обмениваются оплеухами, нежели пулями на барьере.
Дуэль сместилась из сферы сословной в чисто культурную, и последними носителями живого дуэльного сознания были писатели и поэты, причем не всегда дворяне по происхождению. В начале XX века самыми последовательными и даже восторженными носителями рыцарского дуэльного сознания в России были литераторы-символисты и постсимволисты. При этом пресловутый point d'honneur для них почти полностью утратил сословную наполненность. Чувство чести, каким оно было у Пушкина и Лермонтова, на фоне средневековой рыцарской романтики (ср. активизацию рыцарских мотивов у Блока, Брюсова, Гумилева и др.) стало знаком культуры — в противопоставление невежеству, хамству, низости; честь превратилась в универсальную, внесословную и вневременную категорию. Отсюда многочисленные состоявшиеся и несостоявшиеся дуэли в литературной среде.
Одной из самых известных дуэльных историй начала XX века была ссора В. Я. Брюсова с А. Белым. Об этой истории написано довольно много {см., например: 6; 17}, и мы лишь кратко наметим канву развития событий. Обострение взаимоотношений произошло в 1904 году. Поводом для него были сложные отношения Белого с Ниной Петровской, их разрыв и наметившееся ее сближение с Брюсовым. Поведение Брюсова, исполненное магическими, демоническими знаками и жестами, во многом непонятное Белому, агрессивная жестокость Брюсова, сменявшаяся столь же непонятным самоуверенным спокойствием, очень сильно влияли на Белого, накладываясь на его личные переживания. Белый ощущал над собой некую мистическую власть Брюсова, постоянное психологическое давление. Выпады Брюсова становились все более резкими. Посланный сложенным в виде стрелы листок со стихотворением „Бальде-ру Локи“ — это практически объявление войны: „На тебя, о златокудрый, / Лук волшебный наведен“. Белый ответил стихотворением „Старинному врагу“: